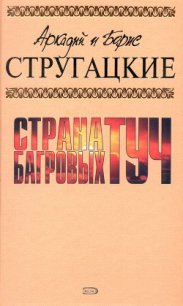О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Наверно слово мое бессильно. Но когда-нибудь над вопросом здесь поставленным задумаются: именно, что же в данный текущий момент русские воинствующие между собою литературные лагери дают живой душе, с «верою, надеждой и любовью» входящей в них? Что дают таланту наши «направления»? Ему они не дают никакой пищи, содержательности; не дают в то же время и развернуться, как просто личности, суживая своими рамками. «Войди и умри»: как страшно это сказать о местах, о которых некогда говорили: «войди — и оживешь».
И между тем роковое положение еще утяжеляется тем, что, в частности, например программа «Русской Мысли» — добрая, нужная. Все буквы в ней верны; но все буквы не шевелятся. России точно нужны: и несколько большая свобода, даже очень большая; и земство, и самоуправление, словом — все «пункты», какие выставлены. Но в рядах партии нет… одушевления, что ли, или таланта в отношении к самым этим «пунктам». Здесь я не разумею талант литературного выражения, талант мастерства словесного, — а единственно и исключительно талант самой души (ведь «душа» от слова «вдохновенье»? И «вдохнул» «душу» в человека Бог). Говорю это не отвлеченно; но как бывший участник петербургских «религиозно-философских собраний» — говорю, испытав in concreto, что значила бы маленькая прибавка к свободному духу нашего общества и внешних наших условий. Помню и опасные походы против «Собраний» — «Москобск. Ведомостей»; и тревожные «дневники» кн. Мещерского. Итак, «лозу» нашего консерватизма я испытал на спине своей. Но и она не погнала бы меня в лагерь, vis-a-vis стоящий: просто — никуда бы не погнала. Некуда идти. Не к кому. И вот это — чрезвычайно грустное положение как русского писателя, так и вообще русской литературы текущего момента, последних 10–15—20 лет. Поскучнело в нашей литературе. Вся литература несколько поопустилась. И это отражается на положении талантов: они — то дают литературе кто сколько может, искорку от себя; а из литературы никакого тока в них не идет, дабы личная их искорка разрослась в пламя. Посмотрите, какие особенные таланты были в Курочкине, в Лескове, в переводчике Диккенса — И. Введенском? Да и еще во множестве личностей даже меньшего калибра. Что особенного представляет собою Огарев? Или — вне «Семейной хроники» — С. Т. Аксаков? Поразительно, до чего все другие сочинения, оставшиеся от Грибоедова, ничтожны, кроме «Горя от ума». Был великосветский шалун и потом дипломат: и не будь вдохновений, впечатлений от Батюшкова, Пушкина, Крылова (язык его басен), Жуковского, он мог бы навсегда остаться с «Грузинской ночью», с комедией, написанною совместно с Шаховским, и тысячью передаваемых из уст в уста острот, никогда не перейдя к труду великой его комедии. Ярки ли были творческие порывы в самом Жуковском? Как груб бывал Некрасов! Но все эти далеко не первосортные души получили во времени своем, в окружающей литературе — темы, толчок, порыв, технику; получили интерес жить и многозначительность положения. Катится могучая река: и неинтересный булыжник шлифуется в разноцветный узорчатый камешек, которым любуется путешественник.
Вот этого-то «гранения» времени и не переживают писатели наших дней, этого вдохновения, которое бы давало ветер в крыльях. Все мокро, серо. Дождит. И вязнут крылья в тумане, не подымая вверх.
Это очень применимо к Чехову, к грусти его, тоске его; к серости сюжетов, лиц, положений, какими наполнены его милые, приветливые создания. Все они похожи на степь с колокольчиками. Но «среди долины ровныя», как поется в песенке, не зеленеет «могучего дуба».
И между тем само общество, вокруг литературы, гораздо более, чем она, одушевлено. Общество вообще интереснее теперь, чем литература, — и это есть страшная и роковая для литературы черта. Как отозвалось оно на смерть Чехова! Это — хороший симптом. Общество не дремлет. И решительно нужно подняться литературе.
1905
Когда-то знаменитый роман {21}
В витринах книжных лавок, в свежей зеленой обложке, потаился роман Чернышевского «Что делать?». «Друг детства», подумал я о нем: ибо прочитан он был мною в пятом классе гимназии. Его потом спрятали блюстители нашего общественного и семейного порядка. Теперь почему-то снова выпустили. Едва ли кто теперь им зачитается. Написанный Чернышевским в тюрьме, он написан свежо, ярко, молодо, с верою в дело. Но в сущности и в свое время он был уже стар, археологичен, не интересен. Вот я только что прочел интересный этюд г-жи Балабановой: «Отель Рамбулье» — очерк общественного и литературного салона Франции XVII века. Если взять: 1) ее Фронду, 2) нравы двора Генриха IV с Маргаритою Валуа в центре и 3) строгих затворников Порт-Рояля, то мы получим только в аристократическом и красивом выражении все три тенденции наших тех 60-х годов и вместо романа «Что делать?»: 1) некоторый коммунизм семейных нравов, «обобщение жен». Валуа хотела бы быть женою всех, как сам Генрих, любимейший король Франции, — мужем всех; 2) сухой, суровый аскетизм на почве философского и политического протеста (Порт-Рояль, Рахметов); 3) шумная борьба общества против двора регентши Марии Медичи и ее любимца Мазарини (у нас «прокламации, лекции при городской думе и проч.»). Сам отель Рамбулье до известной степени напоминал собою знаменитые литературные собрания при дворе просвещеннейшей женщины нашей эпохи реформ — великой княгини Елены Павловны.
Десять — пятнадцать лет спустя после появления романа «Что делать?» о смысле и достоинствах его еще спорили люди серьезные и перешептывались многодетные матроны, как сейчас помню, высокой личной добродетели. «Перешептывались», потому что неудобно было говорить вслух о смело проведенной там тенденции некоторого «обобщения жен». Как известно, Чернышевский не только отрицал, но резко топтал ногами древнее чувство ревности: то чувство, на котором в сущности единственно держится личный брак, держится семья — как личное и исключительное, как «мое» и еще «ничье» явление. Его парадокс, что ревновать свою жену — такое же дикое и «основанное исключительно на предрассудке» явление, как привычка старых бар не давать никому курить из своего чубука, поражал всех. Бедный Отелло: утешился ли бы он, узнав об этой теории? Увы, инстинкты человеческие текут вовсе не из убеждений, не из теорий. Я помню виденного в Крыму ревнивого лебедя, который, потеряв одну подругу, заклевывал всех других, каких подпускали к нему «для утешения». Но в те годы, в 60-е годы, прошла вообще подобная тенденция, и она едва ли была присуща одному Чернышевскому. Я не могу забыть, до чего был поражен и удивлен, когда один друг покойного Ф. М. Достоевского, друг и личный, и литературный, рассказал о нем:
— Странный он был человек и высказывал иногда идеи ни с чем несуразные. Помню тесную комнату, набитую друзьями-журналистами. Дым, чад, шум. Но вот все замолкли. Федор Михайлович заговорил своим нервным, надтреснутым голосом. Он говорил долго, все о «призвании русского народа», и что в нем «спасение» и это «народ-богоносец». Только тянулся он, тянулся и, подняв палец кверху и сам став на цыпочки, почти взвизгнул: «Да знаете ли вы, к чему способен русский народ в его великом смирении, отречении, поглощении и отсечении личного я в общем и братском и Христовом, он, и только он, дойдет и уже доходит иногда до общности жен, до единения в женах». Вот каким был Федор Михайлович.
Рассказ этот о Достоевском был сделан не мне, а в небольшом кружке писателей, и сам рассказывавший жив еще, и вообще это достоверно. Все выслушавшие промолчали. А мне он запал в голову по одной особенной причине. Биографически, по письмам, мы знаем, до чего Достоевский ценил и возводил в культ «добрую старорусскую семью», насколько видел в этом источник всяческого личного покоя, личного добра и, наконец, общественной, национальной красоты. «Еще растленная семья», — с какой болью, точно кровью сердца, писал он одну маленькую статью в «Дневнике писателя». Можно сказать, последний кусочек счастливой семьи, глубоко индивидуальной и как бы отрезанной от мира в своем блаженном эгоизме, увеличивал в мысли его «шансы русского будущего народа». Пусть он мыслил и работал не так, как наше «хладное» духовенство (консистория), которое «семейным горем» не прошибешь. Итак — это одна линия Достоевского; совершенно бесспорная. Эгоистическая, своя семья, «моя» и «только моя» — идеал. «Мои дети! Моя жена!» Но кто не помнит и не поражался, что, когда, сквозь лазурные слезы, он начинал рисовать человечество отрешенным от тягостных условий былого существования, как бы перенесенным на новую явившуюся планету, где нет старого «греха, проклятия и смерти», где люди еще невинны и чисты как дети, — он вдруг начинал говорить, что «источник этой самой невинности заключался в том, что в них еще не рождалась ревность и дети и жены были общие». Что тут не окончательная глупость и бездушие говорили в Достоевском и уж во всяком случае не порочное поползновение (ну, что в такой мечте? какая поживка в том, что «на луне»?! да и не мог же он не думать о пользе человечества, о пользе нашей русской, развивая свои идеалы), — можно видеть ну хотя бы из приводимых путешественниками рассказов, что «коммунальный брак» присущ первобытным народам, т. е. быту наивному и детскому состоянию… сравнительно с европейскою психологиею, конечно, невинному!!! Таким образом, очень мало что понимая в таком устройстве и в этой идее, мы должны признать, что Достоевский своим принципиальным гением уловил какую-то метафизическую, еще никому не открывшуюся связь между: 1) невинностью и 2) отрицанием эгоизма пола, личности в семье и браке. Я подведу разумение читателя к некоторому приближению к этой идее через следующий мой литературный опыт. В 1898 г. я впервые, в журнале «Русский труд» [134], провел нечто вроде апофеоза семьи, нашей христианской и русской, нормальной и индивидуальной. Провел я это резко и упорно, не без серьезной цели вызвать и посмотреть: что скажут на это читатели, русские, христиане. Получилось согласие многих, но и резкая критика, и вот эта резкая критика вся сводилась к одному упреку: