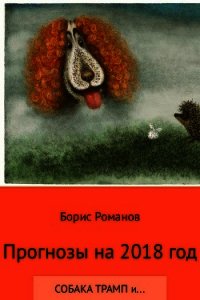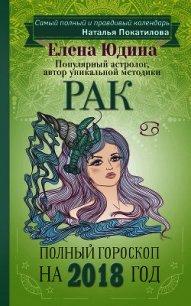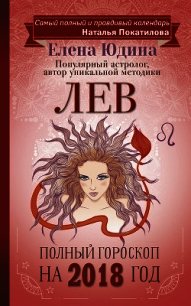Как мы пишем. Писатели о литературе, о времени, о себе - Крусанов Павел Васильевич (читать книги онлайн бесплатно регистрация .TXT) 📗
Когда-то книга была источником бесценного знания. Потом стала предметом интерьера. Теперь и как интерьер она устарела, и роскошные собрания классиков выносят к мусорным контейнерам, где я их подбираю.
В моём окружении немало переставших читать людей. «Нет времени», – говорят они. Это, конечно, отговорка, потому что человек всегда находит время на то, на что хочет. Но хорошо уже то, что стесняются сказать: «Мне неинтересно», а ищут «уважительную» причину. Значит, осталось какое-то рудиментарное уважение к книге.
Число читателей снизилось – но, может, выросло их качество? Отсеклись случайные люди, для кого чтение было необязательной формой досуга?
Или мы все (общество, государство) не должны были этого допускать? И следует бороться за каждую читательскую душу с миссионерским пылом?
Что должна литература – учить, развлекать? Или ничего не должна?
Считается, что большинство современных российских литераторов пишут не ради денег (гонорары несоразмерны с временны́ми и нервными затратами). Если у меня нет лишнего времени и денег – имею ли я право заниматься своей писаниной, а не семьёй, которая хочет есть? Самолюбие, тщеславие? Мелко. Долг? Текст как способ жизни? Потребность что-то сообщить миру? Но мир пресыщен, информация ничего не стоит, как вода в море.
Так зачем писать?
В какой-то момент приходит понимание того, что молчание может быть информативнее разговора. Пробелы и паузы – необходимый компонент текста, молчание – форма речи. Оно может быть громким и даже оглушающим. «Молчание – золото», – не нами придумано. «Лучше промолчи! Знаешь, сколько стоит разговор? Тысячу фунтов – одно слово!» – услышала Алиса в Зазеркалье. А вот Фазиль Искандер: «Умение писателя молчать, когда не пишется, есть продолжение таланта, плодотворное ограждение уже написанного».
Речь, особенно публичная, упрощает и оглупляет мысль. Молчание – способ разведки и добычи глубоких, ещё не разработанных литературными шахтёрами пластов мысли. Следует говорить реже и метче, быть не пулемётчиком, а снайпером. В молчании есть удовольствие более высокого уровня, нежели в разговоре. Но только молчание должно быть не пустым, а наполненным. Тогда из него когда-нибудь могут родиться небессмысленные и небесполезные буквы. И это наконец выкристаллизовавшееся, выросшее на твоём гектаре слово будет если не серебром, то хотя бы алюминием.
Василий Аксёнов. Бывает так
Бывает так. Свидетельствую.
Идём мы – я, брат мой Николай и мама – густым ельником, разбитой тракторами дорогой, держась травянистой обочины. На покос. Отец уже там, ушёл раньше – дымокур от комаров и слепней развести да чаю наладить.
Останавливается вдруг мама, молчит минуту, говорит после:
– Василий умер.
Василий – это муж старшей маминой сестры, тётки Матрёны.
Мы ни слова с Николем. Что тут скажешь?
Пришли на покос. Чаю смородинного попили. Часа четыре, с перекурами, покосили.
Сидим возле дымокура. Обедать собрались.
Свернув с дороги, подъезжает к нам по кошенине на велосипеде Шурка Сапожников, мой одноклассник, и говорит, обращаясь к маме:
– Тётка Васса, на почту позвонили, у вас умер кто-то в городе.
Мы – я, Николай и отец – остались на покосе, мама отправилась домой.
Ну, после выяснилось: умер дядя Вася, муж тёти Моти. Вроде и не болел. «С сердцем чё-то». Как раз в тот час, может, и в ту минуту даже, когда мама остановилась по дороге на покос и нам об этом объявила, и отлетела его душа от тела.
С мамой подобное случалось часто. Такое было, например. Она – на кухне, я – в прихожей, читаю книгу. Кое-что спросить у мамы надо, мельком думаю. Выходит мама из кухни и отвечает мне на вопрос, который вслух я не успел ещё задать.
Была она женщиной мудрой и натурой тонкой. Многие женщины приходили к ней за советом, зная, что посоветует она от сердца и верное, поделиться ли своими горестями и секретами, зная, что никому она этих секретов не выдаст.
Отец был как тот израильтянин, в котором нет лукавства. Мама ему иной раз, улыбаясь, так и говорила: «Ваня, ты прямой, как оглобля, бесхитростный, подкривить бы тебя чуть-чуть – всем бы, наверно, от этого легче стало». – «Какой уж есть», – отвечал ей прямо Ваня.
В школе ещё учился, в последних классах, перечитал я всего Бальзака, «зелёного», в 24 томах, после не перечитывал, но с той поры помню, как Бальзак писал об одном из своих героев, Растиньяке: типичный южанин – кожа белая, волосы тёмные, глаза синие. Отец подходил под это описание. Только глаза у него были не синие, а серо-голубые. Коренной сибиряк. А предки его, ну и мои конечно, по смутным сведениям, дошедшим из давнего времени до нас, пришли в Сибирь с Русского Севера, с Поморья, ещё в XVII столетии.
Мама была южнорусского типа – тёмно-каштановые волосы, карие глаза; круглолицая.
И с её стороны предки появились на сибирской земле в XVII веке, так и жили на бывшей территории бывшего Енисейского полка, то есть являлись «первобытными русскими жителями Енисейской губернии».
Из моей книги «Была бы дочь Анастасия»:
«Сибирь. Суровая, как сукно, как кожа с мездры ли, – не для изнеженного, одевающегося в порфиру и виссон и каждый день пиршествующего блистательно, не каждый сносит: и нам, государь, сиротам твоим, с студи и с босоты и голодною смертью погибнуть; морило нас всякою нужею и стужею знобило; и мы, государь, в походе лошадьми опали, и голод, и великую нужу, и стужу терпели, и лошадину, государь, с голоду ели; в Енисейский острог еле живы приволоклися, испухли, и оцынжали, и позябли, – и из моих прадедов, казаков-первопроходцев непоседливых, кто-то под этими отчаянно-докучными строками, может быть, подписывался именем своим, может, и прозвищем, а то и просто крестик ставил, закорючку ли, – даже и сердце защемило, лишь представил. Суровая-то суровая, ну а роднее места нет на свете. За четыре без малого века пребывания здесь, на енисейской земле, моих предков в позвоночник мне, в костный мозг любовь и привязанность к ней, к землице этой, словно ржа в железо, въелись – не вытравить; и надо ли – как-то и с этим вот, пусть и с тревогой, но живётся».
Здесь, на енисейской земле, сложились и наши характеры, нравы и обычаи.
Приехав в Ленинград, был приятно поражён: какие здесь отзывчивые люди! Выпивая с тобой, обещают тебе всё возможное и невозможное. Ничего, конечно, под разные оправдания и объяснения, не исполняется. В Сибири: попросил ты что-то у человека, сразу он ничего тебе не скажет. Подумаю, мол, посмотрим. Назавтра: или скажет, что помочь он тебе не может, или пообещает и уж в «лепёшку расшибётся», но обещание осуществит.
Ну это так я.
Первый раз надолго, на три года, отбыл я из дому – попав служить на Тихоокеанский флот. По дому тосковал, но так, как будто тоска эта висела на лямках у меня за спиной. Всё время думалось о том, как бы выспаться да досыта поесть.
Демобилизовался. Год проработал в яланском ДРСУ, разнорабочим.
На следующее лето уехал в Ленинград и поступил на исторический факультет ЛГУ, кафедра археологии.
Вот тут затосковал по-настоящему. Иной раз думал: брошу всё и улечу домой. Чтобы этого не сделать, ехал в аэропорт Пулково, представляя, будто жду свой рейс в Красноярск, выпивал чашку кофе, часа через два, вдоволь себя наобманывав, покидал аэропорт. После поездке в аэропорт нашёл замену.
Денег, ясное дело, не хватало, подрабатывал дворником. Вставал рано, как только начинал звучать метроном в невыключенном с вечера репродукторе. И когда доигрывал в нём гимн, я уже захлопывал за собой входную дверь. Приходил со своего участка и, попив чаю, убегал в Университет. После занятий возвращался в свою «дворницкую» комнату. Заварив крепкий чай, садился сочинять роман под незатейливым названием «Ялань», в который, как в собеседника, расположенного к тебе душевно и внимательно, переплёскивал из сердца собачью тоску по оставленному далеко-далеко родительскому дому, по родным, близким мне и любезным моему сердцу людям.