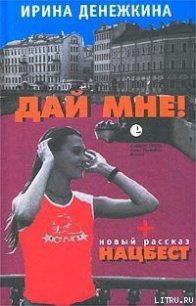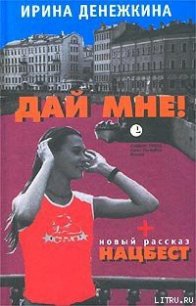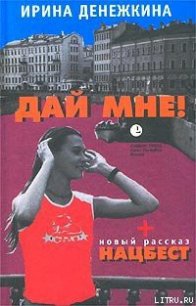Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
Воздух – человеческая и поэтическая стихия Блока, равно как в указанном отношении социальная и культурная его стихия. Он живет атмосферически – в веяниях, навеваньях. Для него идеи, духовные монады носятся в воздухе, как осенние листья или снежные хлопья; культурно-историческая и природная атмосферы сливаются в смешанную воздушную среду, чреватую влияниями и предзнаменованиями, – по алости зорь он призывает догадаться о причинах участившихся самоубийств. Да и все световые явления «Стихов о Прекрасной Даме» хочется назвать небесной пиротехникой, преломленной сквозь воздушную толщу. Поэтика Блока – поэтика дрожания мира в воздушной струе.
Ю. Тынянов заметил, что Блок дает совершенно новые образы – не предметные и не беспредметные – слитные. И действительно, воздушный слой расположен как бы на полдороге между идеей и материализацией, трепещущий воздушный поток смешивает раздельное. Нет средостения между восприятиями световыми, звуковыми или еще иными (синестезия, слитность пяти чувств: «Как будто вдруг – светло и звучно / Дышала песнь – и умерла»); нет грани между вещественным и невещественным («И в вечном свете, в вечном звоне / Церквей смешались купола»), между далеким и близким («Темный морок цыганских песен, / Торопливый полет комет»), между внутренним и внешним («И донеслось уже до слуха: / Цветет, блаженствует, растет»). Эта черта приводит метафору Блока на опасный край изысканности: «Своей улыбкою невинной / В тяжелозмейных волосах». «Сиротливо приникший к ранам / Легкоперстный запах цветов», – но он, обтекаемый родной ему развоплощающей стихией, не мог видеть и чувствовать иначе.
Я уже говорила о перечислительных рядах блоковского синтаксиса. Стиль его, поэтический его жест выражают в наибольшей степени, кажется, те из них, которые интонационно знаменуют невидимое нарастание, приближение (или удаление) чего-то в воздухе как в проводящей среде: «Высоко первая звезда / Зажглась, затеплилась, зардела»; «… вдали, вдали / Звенело, гасло, уходило / И отделялось от земли». В мире Блока немало темного, душного, дурманного, но нет ничего грубого. Ведь грубое – значит, плотное, не просквоженное воздухом.
В каком-то смысле этот мир иллюзорен для чувств и для ума. В нем и помина нет строгой, «объективной», почти ученой символической двупланности, какой ждал Вяч. Иванов от своей школы. Планы спутаны, образы-знаки лишены твердых очертаний и меняются на глазах, как облака на ветреном небе. Поэтика воздуха – это поэтика не идейных контрастов, а плавных соскальзываний и замещений. Еще наивный Евгений Иванов, к своему ужасу, замечал, что зори 1900–1903 годов (те зори, от которых душа Блока, по собственным его словам, «ведет свою родословную») в стихах его друга незаметно переходят в зловещее городское зарево, а потом, добавим от себя, «в широкий и тихий пожар» над всей Русью. Алая лента зари – деталь убора «Владычицы вселенной», ее путеводительный вымпел – превращается в красный взвившийся рукав раскольницы Фаины, в узорный плат до бровей ее родной сестры в стихотворении «Россия».
Мне кажется, известная театральность поэзии Блока тоже связана с атмосферической внушаемостью его души и, главное, с потребностью жить и чувствовать в мире светозвуковых феноменов, в мире окутанных дымкой мизансцен, а не полных воплощений. Если несказа́нного нет, «почтительнейше возвращаю билет». И когда несказа́нное запаздывало, Блок умел извлекать его для себя из волшебного театрального тигля.
Муза Блока вширь объемлет весь мир, но располагает его как бы меж кулис. Любимых женщин (они и были актрисы) Блок воспринимал сквозь их роли: Офелия, Кармен, сочиненная им самим для Н. Н. Волоховой Фаина (в «Песне судьбы»). Женские образы Блока «костюмированы», спрятаны в воздушный ворох наряда. Как часто Блок обозначает женственное начало легкой деталью «ее» убора: лента, платок, рукав, коса – вплоть до ботинки, перьев и каблука, хладных мехов, соболей, духов, шлейфа и колец. И эти туманные подробности сублимируют страсть в артистический восторг и любование – особая, бередящая душу и ускользающая музыка женственности, хорошо знакомая клану театральных поклонников. В таких образах-ролях природное и непосредственное проведено через культурное и символическое, они значимы не сами по себе, а тем, на что они намекают – где-то «там» или в душе героя.
О «масках» и «ролях» самого Блока много писали и спорили. Собственно, знаменитый вопрос Тынянова в его отклике на смерть Блока: кого оплакивают – человека или поэта (но человека ведь не знал почти никто)? – можно переиначить: кого любили, кому верили – человеку или его ролям? Ясность приходит именно из сферы театральных аналогий. Подобно тому как в ермоловской Иоанне д’Арк любили Ермолову, ее личность, ее душу, ее мирочувствие, как в Норе, исполняемой Комиссаржевской, любили саму Комиссаржевскую – Веру, «обетованную весну», – так и в ролях Блока правильно находили и любили его человеческое лицо.
Личность Блока выражена в его ролях, но она же им отдана, раздарена. Собственное «я» было главным материалом его лирики, но ему как раз недоставало стального лермонтовского эгоцентризма, исключающего щедрую отдачу своих личных данных в аренду роли. Воплощаться в роли его заставляли воздушные, ветровые, центробежные силы окружающей атмосферы. И это был его способ расширения границ «я». Когда молодой Ф. Сологуб пишет: «Скучные тетрадки / Надо поправлять, / На судьбу оглядки / Надо забывать», то он как частный человек грустит о своей тусклой учительской доле, и тетрадки здесь настоящие. Когда же сообщает Блок: «Да и меня без всяких поводов / Загнали на чердак. / Никто моих не слушал доводов, / И вышел мой табак», – можно не сомневаться, что табак у него не вышел и что он просто зажил внутри новой роли, в «предлагаемых обстоятельствах», а подходящий факт собственной жизни (отселение вместе с женой из материнского дома) использовал как манок, наводящий на нужное чувство. Но зато частный этот факт расширился и стал мостком к другому «я», вообще к людям.
Все поэтические роли Блока (их контрастность всегда так любят подчеркивать: рыцарь и шут, пророк и литератор модный, солнечный витязь и пьяный бродяга, обитатель чердака и ресторанный донжуан, мастеровой с гармоникой и светский «мертвец», Христос и Гамлет) суть встречи его души с тем или иным веянием эпохи, культуры, духа. И трагедийное достоинство, в какое облекаются в его стихах эпоха и среда, город и простор, безвременье и мятеж, та окрыленность и вознесенность, с которой сквозь призму его лирической трилогии переживаются «страшные годы России», во многом обеспечены неподдельной значительностью и феноменальной правдивостью его человеческой личности. Он был любимцем своего поколения, и его легендарная слава кое в чем напоминала славу артистическую. Однако не суетную, не эстрадную, а тот восторг признательности, когда актер дает возможность современникам увидеть собственное их отражение, поднятое благодаря его личному вкладу на огромную человеческую высоту.
Опять-таки не забудем, что миражность и театральность блоковского мира – оборотная сторона его идееносности и духоносности, его вознесенности над бытом и укладом («… его ценности невещественны»). Блок мечтал очертить для себя, для своей души независимое пространство, где, «сердцем вечно строгим меря», можно было бы стоять твердо, думать и чувствовать просто, жить неколебимо. В письме С. А. Богомолову он пишет: «Переносить… тяжесть помогает только обладание своей атмосферой, хранение своего круга… Завоевать хотя бы небольшое пространство воздуха, которым дышишь по своей воле, независимо от того, что ветер все время наносит на нас тоску или веселье, легко переходящее в ту же тоску, – это и есть действие мужественной воли, творческой воли» (1 мая 1913 года; последняя фраза в тот же день вписана в дневник). Время от времени он наводил порядок в своем душевном дому, восстанавливая в нем «собственную атмосферу» – атмосферу безукоризненной порядочности, ответственной строгости, чистоплотной требовательности, граничащей с толстовским морализмом. Трогательны некоторые пометы Блока на раньше написанных стихах, намеренно разрушающие демоническую сложность противочувствий во имя простых правил жизни. «Отвратительный анархизм несчастного пьяницы» – это по поводу романтически громкого, антимещанского стихотворения: