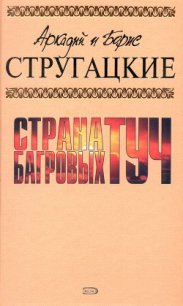О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Быта, жизни, зрелой связанности зрелых людей, чего всего так много у Толстого, Тургенев почти не описывал же, или изображал слабо и неполно, афористично и акварельно. Точно он сам вечно жил «на хлебах» и изобразил каких-то идеальничающих «нахлебников», за которых и которым все приготовят их мамаши и папаши. Лодочка с «лазурными» людьми ведь и в самом деле плывет сама, без труда гребцов и предусмотрительности рулевого. Все уже управляется «движением сердца» счастливых. Но от этого несколько чахоточного характера идеализм его героев почти выигрывает. В «Накануне», «Отцах и детях», «Рудине», «Дворянском гнезде» мы видим людей, силы которых не только подняты высоким чувством любви, но около них вообще убрана вся трудная, хлебная и работная, сторона жизни. Мы назвали Тургенева великим европейцем и счастливым русским. Он дал чудную русскую обработку многим европейским идеям. В самом деле, эти идеи, весь дух европейской цивилизации он ввел в русские души в самую лучшую, «героическую» фазу их возраста, и заботливо из процесса перегорания этих идей убрал все сорное. Дал, так сказать, «субботу покоя» на Руси европейскому идеализму. Все это, понятно, односторонне и неестественно, как мало естественны же лица и общественная ситуация у Достоевского. Но последствия односторонности этой — благотворны. В рассказах и повестях Тургенева мы входим в мир какого-то рыцарского идеализма, одетого густою русскою плотью. Идеи философские, исторические, общественные смешаны с ароматом любви, и через призму этой «лазури» кажутся лучше, чем может быть есть на самом деле. Мы любим тревоги влюбленных, как любим самих влюбленных; а они тревожатся и самое чувство в них загорается на почве идейных столкновений Таким образом «талант влюбленности» у художника слова дал лучшую атмосферу, лучшую «совокупность условий» для передачи на родину западных идей, ничего общего с любовью не имеющих. Труды его напоминают прекрасную афинскую «академию», или, пожалуй, так счастливо устроенную школу, где ученики и ученицы усваивают уроки от наставников и наставниц, в которых они влюблены. Все одурены, в тумане, но это только фаза возраста и удача минуты. Все заняты нисколько не возрастом своим или одурением, а теми спорами, точное содержание которых мы читаем в монологах и диалогах Потугина, Рудина, Лаврецкого, Базарова, Инсарова, Шубина, «Лишнего человека». Все за этими их диалогами следили. Споры в повестях Тургенева были три-четыре десятилетия беседами каждой русской гостиной, кабинета, спальни; возможно ли исчислить и оценить, насколько они воспитали и образовали русского человека, русский ум и сердце.
И вот почему, — подведем свой итог, — он был одним из величайших бессознательных педагогов. «Педагогия» редко удается преднамеренно; зато не преднамеренно она иногда поразительно удается. Ученики, которые бегут из школы и зажимают уши перед «должностным» учителем, — раскрывают и сердце, и ум перед таким учителем, как Тургенев. И в этом — не зло. Какого официального педагога мы можем представить себе, который мог бы наставить юношу и девушку так полно и закругленно, как Тургенев. Есть ли средства у государства, чтобы оплатить таких учителей. Но Бог заботится о человеке, когда он не может помочь себе. Такие педагоги ничего не требуют, ни даже стула себе, ни кафедры. Они учат бесплатно, безвозмездно, только за благодарность себе человеческую: и откажем ли мы в ней им, может ли отказаться и государство, чтобы почтить этих особых, бескорыстных учителей своего населения соответствующим образом? Нам хочется указать, что плеяда русских писателей, состоящая из 5–7 имен, за вторую половину XIX века, давно ожидает себе благодарного памятника, и именно не разрозненно, а памятника общего, всей группе.
Тургенев, Гончаров, Островский, Достоевский, Толстой, и может быть еще несколько около них, могли бы получить себе один общий монумент, монумент-картину, а не монумент-портрет. Мы почему-то ограничили себя воздаянием «каменной памяти» одному золотому веку нашей литературы, от Карамзина до Гоголя включительно. Форма этих писателей, язык их, яркость действительно несравненны с последующими. Но не забудем, что все содержание собственно развития русского, каково оно есть сейчас, идет уже от «серебряного периода» русской литературы, уступавшего предыдущему в чеканке формы, но неизмеримо его превзошедшему содержательностью, богатством мысли, разнообразием чувства и настроений.
Среди иноязычных (Д. С. Мережковский) {17}
Не без внутреннего стеснения, и имея в виду лишь пользу дела, — я согласился на предложение г. редактора «Н. Пути» дать в перепечатку настоящую статью свою, уже напечатанную в № 7–8 «Мира Искусства». По его специальным задачам и содержанию, последний журнал вовсе не читается нашим духовенством; между тем статья эта, будучи, конечно, обращена вообще к русскому обществу, в частности «просит рассудить» гг. духовных положение вещей, ход спора, силу тезисов, к ним обращенных Д. С. Мережковским. — «Несмотря на обилие речей г. Мережковского, я не ясно понимаю» или «не понимаю вовсе, что он говорит», или «чего он хочет»: так заявляли не раз (напр., М. А. Новоселов) в религиозно-философских собраниях [104]. Ну, вот как бы в ответ на эти недоумения, и перепечатывается эта статья в «Нов. Пути», который уже читается всеми участниками и гостями религиозно-философских собраний, да и вообще обильно читается духовенством.
Года три назад, на видном месте газет печаталось о трагическом происшествии, имевшем место в Петербурге. Англичанин со средствами и образованием, но не знавший русского языка, потерял адрес своей квартиры и в то же время не помнил направления улиц, по которым мог бы вернуться домой. Он заблудился в городе, проплутал до ночи; и как было чрезвычайно студеное время, то замерз, к жалости и удивлению газет, публики, родины и родных.
Судьба этого англичанина на стогнах Петербурга чрезвычайно напоминает судьбу тоже замерзающего, и на стогнах того же города, Д. С. Мережковского. Еще этой зимой я читал перевод восторженного к нему письма, написанного из… Австралии! Автор письма называл его самым для себя дорогим, ценным, глубокомысленным писателем, из всей современной всемирной литературы. Он писал это по поводу «Смерти богов» и «Воскресшие боги», — двух романов, только что переведенных на английский язык [105] и как-то попавших в Мельбурн.
Помню, однажды, в сумерках вечера, попрощавшись с г. Мережковским на улице, я отыскал себе извозчика, и когда затем, нагнав его, идущего по тротуару, вторично ему поклонился, то с высоты пролетки следя за его сутуловатою, высохшею фигуркою, идущею небольшим и вдумчивым шагом, без торопливости и без замедления, «для здоровья и моциона», я подумал невольно: «так, именно так, — русские никогда не ходят! ни один!!» Впечатление чужестранного было до того сильно, физиологически сильно, что я, хотя и ничего не знал о его роде-племени — но не усомнился заключить, что, так или иначе, в его жилах течет не чисто русская кровь. В ней есть несомненные западные примеси; а думая о его темах, о его интересах — невольно предполагаешь какие-то старокультурные примеси. Что-нибудь из Кракова или Варшавы, может быть из Праги, из Франции, через прабабушку или прадеда, может быть неведомо и для него самого, но в нем есть. И здесь лежит большая доля причины, почему он так туго прививается на родине, и так ходко, легко прививается на Западе. Сюда привходит одна из трогательнейших его особенностей. Что бы ему стоило, и без того уже почти «международному человеку», по образованию и темам, — всею силой души отдаться западной культуре, «отряся прах с ног» от своей родины, где он был столько раз осмеян и ни разу не был внимательно выслушан. Мало ли в России было эмигрантов из самых старых русских гнезд, часто оставлявших не только территорию отечества, но и его веру. Для Мережковского это было бы тем легче, что, воистину, он долгое время из всей России знал только Варшавскую жел. дорогу, по которой уезжал за границу, да еще одно-два дачных места около Петербурга, где отшельнически, без разъездов по сторонам, проживал лето. Когда я его впервые узнал лет семь назад, он и был таким международным воляпюком, без единой-то русской темки, без единой складочки русской души. У него был чисто отвлеченный, как у Меримэ, восторг к Пушкину, удивление перед Петром; но ничего другого, никакой более конкретной и ощутимой связи с Россией не было. Заглавие его книжки «Вечные спутники», где он говорит о Плинии, Кальдероне, Пушкине, Флобере — хорошо выражает его психологию, как человека, дружившего в мире и истории только с несколькими ослепительными точками всемирного развития, но не дружившего ни с миром, ни с человечеством. Он был глубокий индивидуалист и субъективист, без всякого ведения и без всякой привязанности к глыбам человечества, народностям и царствам, верам, обособленным культурам. Ничего «обособленного» в нем самом не было; это был человек без всякой собственности в мире и это составило глубоко жалкую в нем черту, какую-то и грустную, и слабую; хотя в себе сам он ее и не замечал. Все потом совершилось непосредственно: сейчас я его знаю, как человека, который ни в одном народе, кроме русского, не видит уже интереса, занимательности, содержания. У него есть чисто детский восторг к русскому «мужику», совершенно как у Степана Трофимыча (из «Бесов» Достоевского), где-то заблудившегося и читающего с книгоношею Евангелие мужикам. Год назад, собирая материалы для романа о Царевиче Алексее, он посетил знаменитые Керженские леса [106] Семеновского уезда, Нижегородской губернии, — гнездо русского раскола. Невозможно передать всего энтузиазма, с которым он рассказывал и о крае этом, и о людях. Все звали его там «болярином». «Болярин» уселся на пне дерева, заговорил об «Апокалипсисе», излюбленнейшей своей книге — и с первого же слова он уже был понятен мужикам. Столько лет не выслушиваемый в Петербурге, непонимаемый, он встретил в Керженских лесах слушание с затаенным дыханием, возражения и вопросы, которые повторяли только его собственные. Наконец-то, «игрок запойный» в символы, он нашел себе партнера. «Как же, белый конь! бледный всадник!! меч, исходящий из уст Христовых и поражающий мир!!! понимаем, без этого и веры нет! тут — суть!!» Можно сказать, народ упивался «болярином», который его слушал и разумел и даже вел дальше, говоря о каком-то «крылатом Иоанне Крестителе» (в некоторых древних русских церквах, напр., в Ярославле, есть изображения Иоанна Крестителя — с огромными крыльями), а «болярин» в свою очередь наконец-то, наконец нашел аудиторию, слушателей, друзей и паству! Прямо из Таормины (чудное местечко в Сицилии, с классическими остатками), попав на Керженец, он не нашел здесь разницы с собою в темах, духе, в настроении духа. «Что Запад, — там уже все изверилось: Россия — вот новая страна веры! Петербург, с его позитивизмом и общественными вопросами — это отрыжка Запада: но коренная Россия, но эти бабы и мужики на Керженце, с их легендами, эти сосновые леса, где едешь-едешь и вдруг видишь иконку на дереве, как древнюю нимфу в лесах Эллады: эта Россия есть мир будущего, нового, воскресшего Христа, примирения нимф и окрыленного Иоанна, эллинизма и христианства, Христа и Диониса. Ницше был не прав, их разделяя и противополагая: возможно их объединение!! Западные народы просмотрели Христа истинного, цельного, полного, усвоив в Нем только одну половину, аскетически-темную, но не увидев в Нем же стороны белой, воскресающей, оргийной, Дионисовой».