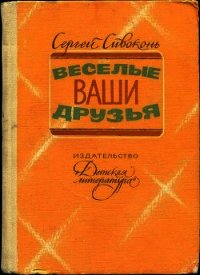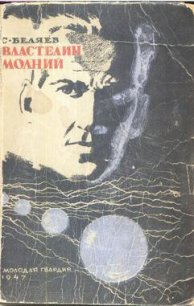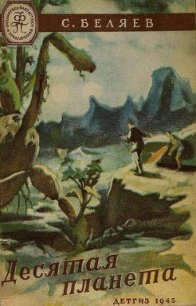И от этого невольничьего жизненного опыта и взгляда на вещи не избавиться, как от клейма, даже на старости лет и за тридевять земель. Есть у Межирова длинная баллада о службе в американской негритянской церкви – что, казалось бы, дальше от отечественной повседневности?! Но в финале внезапная отсылка к привычной советской газетной ремарке (“все встают”) придает стихотворению двусмысленное обаяние (“для тех, кто понимает”), делая поправку на очень специфическое прошлое лирического героя:
…В то же время
в костеле
со всеми поющими встану
И услышу гитару, которая вторит органу,
Или наоборот.
И, раскачиваясь, пританцовывая вожделенно,
Весь костел за коленом выводит колено,
В духе битлзов поет…
………………………………..
Ксендз кончает пастьбу,
и счастливое стадо
Возвращается с неба на землю,
испытывая торжество.
Все встают,
как у нас в СССР, говорят,
и поют,
что бояться не надо
Ничего… ничего…
Драгоценный горький привкус привносят в балладу именно финальные строки, тщетно заклинающие страх – чувство, слишком знакомое выходцу из СССР.
Гражданская причастность к происходящему в стране и обществе может оборачиваться – и сейчас мы это на себе все сильней испытываем – скверным чувством, которое в теории права называется ненаказуемой виной: осведомленность о зле и невмешательство. Это чувство толкает на жертвенные эскапады, вроде пастернаковской публикации “Доктора Живаго”, которую Наталья Иванова назвала вызыванием “судьбы на себя”, или на решительный разрыв популярного советского комедиографа Александра Галича с официозом.
Как водится, виноватыми и ответственными за ошибки и преступления истории чувствуют себя не фактически виноватые и ответственные, а наиболее совестливые. И вот это, по‐моему, – подспудная драма Александра Межирова, и самые, на мой нынешний вкус, сильные его стихи имеют в подоплеке подобные тягостные переживания. (Эти переживания наверняка усугублялись ужасным биографическим обстоятельством: автокатастрофой, ставшей причиной гибели человека и сделавшейся “пожизненной мукой” Межирова.)
Так или иначе, но, скажем, рифмованный автобиографический очерк в 16 строк положен на довольно забубенный мотив:
* * *
“Все это трали-вали…” – думает он…
Юрий Казаков. Трали-вали
Сперва была – война, война, война,
А чуть поздней – отвесная стена,
Где мотоциклы шли по вертикали,
Запретную черту пересекали
Бессонницей, сводящею с ума
От переводов длинных по подстрочнику, —
Забыться не давали заполночнику
Советские игорные дома.
Эпохи этой банк-столы, катраны
И тумбы 17 – зачаженная подклеть,
И – напоследок – страны, страны, страны
В чужой земле, где суждено истлеть,
А вот воскреснуть предстоит едва ли, —
Неважно, кто меня перевезет —
Ладья Харона или просто плот,
А может быть, паром из “Трали-вали” 18.
В приведенном выше стихотворении пытка бессонницей лишь поминается в сонме других жизненных напастей и превратностей, а вот это – из моих любимых – целиком посвящено блужданиям по пограничной области между сном и бодрствованием, а поскольку ум лирического героя заходит за разум, то в стихотворении на равных поминаются реалии переводческих поездок в Грузию и заоконная явь бессонной ночи:
Хоронили меня, хоронили
В Чиатурах, в горняцком краю.
Черной осыпью угольной пыли
Падал я на дорогу твою.
Вечный траур – и листья, и травы
В Чиатурах черны иссиня.
В вагонетке, как уголь из лавы,
Гроб везли. Хоронили меня.
В доме – плач. А на черной поляне —
Пир горой, поминанье, вино.
Те – язычники. Эти – христиане.
Те и эти – не все ли равно!
Помнишь, молния с неба упала,
Черный тополь спалила дотла
И под черной землей перевала
Свой огонь глубоко погребла.
Я сказал: это место на взгорье
Отыщу и, припомнив грозу,
Эту молнию вырою вскоре
И в подарок тебе привезу.
По-иному случилось, иначе —
Здесь нашел я последний приют.
Дом шатают стенанья и плачи,
На поляне горланят и пьют.
Или это бессонница злая
Черным светом в оконный проем
Из потемок вломилась, пылая,
И стоит в изголовье моем?
От бессонницы скоро загину —
Под окошком всю ночь напролет
Бестолково заводят машину,
Тарахтенье уснуть не дает.
Тишину истязают ночную
Так, что кругом идет голова.
Хватит ручку крутить заводную,
Надо высушить свечи сперва!
Хватит ручку вертеть неумело,
Тарахтеть и пыхтеть в тишину!
Вам к утру надоест это дело —
И тогда я как мертвый усну.
И приснится, как в черной могиле,
В Чиатурах, под песню и стон,
Хоронили меня, хоронили
Рядом с молнией, черной как сон.
К исповедальной лирике, кажется, применимы слова Джорджа Оруэлла, сказанные по поводу автобиографического жанра: “…если смотреть на любую жизнь изнутри, она предстанет просто как сплошная череда поражений”.
В стихах Александра Межирова, о которых идет речь в этой заметке, особенно наглядна жизненная драма современника и соотечественника сквозь призму личной ответственности за прожитое.
Что у тебя имелось, не имелось?
Что отдал ты? Что продал? Расскажи!
Все, что имел, – и молодость, и мелос,
Все на потребу пятистопной лжи.
А чем тебя за это наградила?
И что она взамен тебе дала?
По ресторанам день и ночь водила,
Прислуживала нагло у стола.
На пиршествах веселых, в черной сотне,
С товарищем позволила бывать,
И в пахнущей мочою подворотне
В четыре пальца шпротами блевать.
Она меня вспоила и вскормила
Объедками с хозяйского стола.
А на моем столе, мои чернила
Водою теплой жидко развела.
И до сих пор еще не забывает,
Переплетает в толстый переплет.
Она меня сегодня убивает,
Но слово правды молвить не дает.
2022