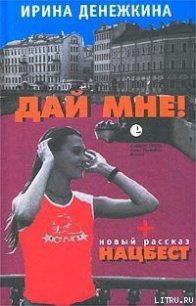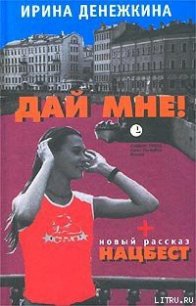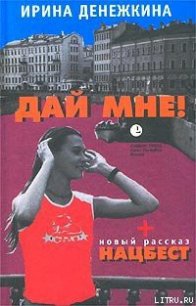Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
В нем момент творческого зачатия означен в образах мгновенного набега, налета, стихийного эроса посреди житейского тленья – «в дни ваших свадеб, торжеств, похорон». Сначала (как сказано о веянии любви в другой лирической пьесе Блока) «приближается звук» – «легкий, доселе не слышанный звон». Он расширяется в сверкающий музыкальный вихрь, и знаменательно сходство между этими ласками музы и приветствием «темноликого ангела» в явно демоническом (с чертами переведенной в патетику «Гавриилиады») стихотворении «Благовещение».
«Художник» занимает в творчестве Блока то же место, что «Поэт» («Пока не требует поэта…») в пушкинском. Здесь общая кардинальная тема и даже лирический сюжет тот же (сначала «душа вкушает хладный сон», потом приходит вдохновенье – душа трепещет, предаваясь ему). Но художник Блока и в быте жизненном все художник: с иронией говорит он о свадьбах и похоронах «детей ничтожных мира» и с горьким задором замечает про них, отведавших его лирической крови, – «песни вам нравятся». Вместе с тем его занятие лишено священной санкции: он не уверен в своих правах и – страстный раб беззаконной музы, ее услад – в просветах меж ними смущаем своей человеческой совестью.
Зато по притязанию и вдохновенному размаху муза эта не чета тому «фантому женоподобному», каким представил ранний Брюсов изысканную эстетскую мечту: «Томился взор тревогой сладострастной, / Дрожала грудь под черным домино» и прочее. Нет, мы имели возможность узнать, что это муза, «мировое несущая» (в «Художнике»: «… длятся часы, мировое несущие»), муза русской, а значит, и мировой судьбы (Блок верил в это «значит» и писал Андрею Белому: «… мы на флагманском корабле»). Муза исторических ритмов, но взятых в их артистическом преломлении и переживании, которое выше «жалкого»… и, быть может, жалости. Разве не артистическим восторгом продиктован обращенный к России удивительный стих «Тебя жалеть я не умею»?
В предосенние дни 1917 года Блок почует близость великих событий и скажет об этом чуть ли не дословно то же, что о наитии эстетической стихии: «… вихрь зацветал».
Нащупывая узел художественной судьбы Блока, думаю, не зря мы блуждаем вокруг стихов 1912-го и особенно 1913 года. Как раз в это время Блок «дорос до трагедии» и с последней остротой переживал неотъемлемую от трагического задачу духовного самоопределения. «Совесть как мучит! Господи, дай силы, помоги мне», – заносит он в дневник 23 декабря 1913 года. В том же декабре написаны (притом несколько стихотворений в один день – 30 декабря) шедевры его совестной, самоотчетной лирики.
Что именно из «житейского» подвело тогда душу Блока к тоске и самообвинениям, мы, верно, никогда не узнаем (тем более что он уничтожил дневники за последующие три года). Но одно несомненно: он переживал пушкински высокую точку сознания, «момент истины», подобный тому, когда у Пушкина написалось его «Воспоминание». В Блоке открылась пушкинская судящая глубина. Примечательно, как Блок сначала пытается отделаться от мучительных мотивов самопознания «гейнеобразной» иронией («Он нашел весьма банальной / Смерть души своей печальной»), как это ему не удается и как он все больше сосредоточивается на нарастающей тревоге. Тут уж не Гейне звучит в нем, а Пушкин: «Как растет тревога к ночи! / Тихо, холодно, темно. / Совесть мучит, жизнь хлопочет. / На луну взглянуть нет мочи / Сквозь морозное окно… Кто-то хочет / Появиться, кто-то бродит. / Иль – раздумал, может быть? / Гость бессонный, пол скрипучий…» Ведь это, по существу, мотив пушкинских «Стихов, сочиненных ночью во время бессонницы»: «Парки бабье лепетанье, / Спящей ночи трепетанье, / Жизни мышья беготня… / Что тревожишь ты меня?.. / От меня чего ты хочешь? / Ты зовешь или пророчишь?..» Правда, Пушкин кончает морально активным, собранным: «Я понять тебя хочу, / Смысла я в тебе ищу», а Блок – обратным образом: «Ах, не все ли мне равно! / Вновь сдружусь с кабацкой скрипкой… / Вновь я буду пить вино!» Решающего поворота в нем так и не происходит… Дней за десять до этих стихов Блоком была написана суровая исповедь о пройденном пути «Как свершилось, как случилось?..». Конечно, это исповедь, лишенная всякой интимности, в ней расставлены не фактические, а символические вехи жизни. Но она на свой лад прямодушна. В начале пути, говорится в ней,
Здесь, как и во многих других случаях, поэт исповедует неизменную веру в свою «тайну», в свою «Мировую Несказа́нность» (письмо Евг. Иванову 25 июня 1905 года). Весомы его признания не эпохи ранних «зорь», а последующих трудных лет. «Всю жизнь у меня была и есть единственная “неколебимая истина” мистического порядка» (Андрею Белому 24 апреля 1908 года). «Все ту же глубокую тайну, мне одному ведомую, я ношу в себе – один. Никто в мире о ней не знает» (письмо жене 18 июля того же года). Он пишет ей и об ужасе перед разрушением «первоначальной и единственной гармонии, смысла жизни, найденного когда-то» (12 ноября 1912 года). Эта тайна, истина в глазах Блока совершенно внедогматична и внефилософична, и он ревниво оберегал ее несказа́нность, невыговариваемость от экспансии религиозного философствования и «петербургской мистики». Эта тайна – его любовь к «розовой девушке», поднятая врожденной огромностью поэтического переживания до чувства космического, в котором, как в едином живом корне, переплелись мир, родина, дом. Это тайна, ведомая всем великим поэтам; тайна внушенного любовью мироприятия. Память о ней позволила Блоку вопреки всему, что произошло со времени его «посвящения», написать в 1911 году:
Запись в дневнике 7 ноября 1912 года – в десятилетнюю годовщину решающего объяснения с Любовью Дмитриевной: «В ней – моя связь с миром, утверждение несказа́нности мира. Если есть несказа́нное, – я согласен на многое, на все. Если нет, прервется, обманет, забудется, – нет, я “не согласен”, “почтительнейше возвращаю билет”…»
Любовь – собирательница, в ней великая стягивающая, центростремительная сила. Любимое лицо она ставит в центр мироздания и отождествляет с некой божественной основой мира. В 1918 году Блок вспоминает те минуты: «… в поле за Старой Деревней, где произошло то, что я определял как Видения (закаты)». Он увидел свою любовь в небесах, небесной зарей. Она же цвела в вечерних далях за зубчатым, похожим на средневековый замок лесом на шахматовском небосклоне. Она распоряжалась природными стихиями и сама являлась как бы стихией стихий: текла вместе со светилами и уносила с собой переменчивый источник света. Она была и сама Русь – не только «душа мира», образ нетронутой, неоскверненной земли, но и душа Руси – русская Невеста, Царевна, в озаренном терему рассыпающая небесные жемчуга (этой тихой нотой «мистической этнографии» зачинаются «Стихи о Прекрасной Даме» – и та же нота зазвучит потом в финале «Двенадцати»). И еще была она тогда милым домашним духом сельской усадьбы, духом уютных комнат, розового клевера и шелестящих овсов.