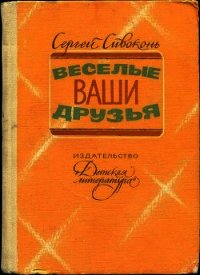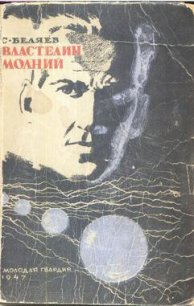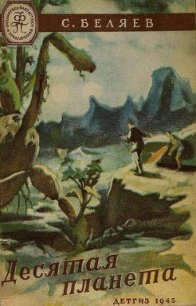Незримый рой. Заметки и очерки об отечественной литературе - Гандлевский Сергей (книга бесплатный формат .TXT, .FB2) 📗
Искусство, как известно, игра. Глубинное осознание зачинщиком игры – художником – этого непреложного факта не всегда проходит безболезненно. Кто он, человек искусства, в конце‐то концов: демиург или фокусник? Холод гордыни и жар самоуничижения, в которые время от времени бросает художника, объясняются в том числе и двусмысленностью избранного поприща. И бывает, что автор из лучших побуждений – будь то забота об общественном благополучии или страсть к объективной истине, к тому, “как оно есть на самом деле”, – ополчается на свой же несерьезный род деятельности, на его условности и приемы и с неизбежностью впадает “в неслыханную простоту”. Общество лишается художника, приобретая взамен моралиста, религиозного проповедника, политического агитатора. Но с другой стороны, творчество писателя, которому совершенно не в тягость постоянное пребывание в башне из слоновой кости, как правило, теряет насущность и, следовательно, обречено на поверхностное и даже снисходительное внимание ценителей литературы. Конфликт между жизнью понарошку и собственно жизнью неразрешим и чрезвычайно плодотворен. Многими шедеврами искусства человечество обязано дерзким – на грани безрассудства – игровым попыткам художественного вымысла освоить неокультуренную целину реальности.
Вопреки сказанному выше, Владимир Набоков искренно, последовательно и даже с вызовом не признавал конфликта поэзии и правды – “ересь” простоты не соблазняла его. И не потому, что Набоков был неглубок, легковесен или олимпийски равнодушен, как иногда думают. Само противоречие между игрой искусства и тем, “как оно есть на самом деле”, писатель счел несущественным и надуманным: его осенила догадка, что мир не бессмысленное движение материи, и не громоздкое воплощение запредельных истин, и не “пустая и глупая шутка”, а блистательный розыгрыш. Опыт художника и натуралиста раз за разом утверждал Набокова в справедливости такого предположения. Особый склад таланта позволял Набокову с воодушевлением узнавать стихию игры – и в природе, и в личной судьбе, и в творчестве любимых писателей – и, разумеется, сделать игру первотолчком собственной художественной вселенной. Убеждение, что космос и сонет заведены одним и тем же ключом и “при всех ошибках и промахах внутреннее устройство жизни”, как и устройство “точно выверенного произведения искусства <…> тоже определяется вдохновением и точностью”, избавило Набокова от тоски по проклятым вопросам и почтения к ним, внушило уверенность в том, что, занимаясь творчеством, он занимается очень насущным делом, имеющим непосредственное отношение к тайне мироздания, к механизму великой игры. Речь идет, говоря напрямую, о сокровенной перекличке творца с Творцом. Естественным образом, в такой эстетизированной вселенной главное зло – пошлость во всех ее проявлениях: безвкусный поступок, расхожая фраза, плоская мысль, примитивная идеология или скудоумие массового энтузиазма равно грешат против мировой гармонии и поэтому отвратительны.
Именно максимализм артистических притязаний делает Набокова “своим” в русской литературе, как бы ни дорожил писатель собственной исключительностью и выстраданным одиночеством. Посмотрите, как расширительно и человечно толкует он понятие эстетического наслаждения: “…особое состояние, при котором чувствуешь себя – как‐то, где‐то, чем‐то – связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма”. От пафоса этого и подобных ему набоковских высказываний не очень далеко и до затасканного до неприличия афоризма “Красота спасет мир”. Еще ближе – к мечтательно-меланхолическому возгласу пушкинского Моцарта: “Когда бы все так чувствовали силу гармонии!” Можно назвать такой взгляд на вещи эстетическим гуманизмом.
Для Набокова творчество, эстетика, игровое начало не приправа к бытию, а суть его. Набоков не столько обнажает частные приемы своего искусства, сколько главный, на авторский взгляд, всеобщий прием, обнаруживает пружину, приводящую мир в движение. Таково мировоззрение писателя. Так Набоков против своей воли и вопреки темпераменту становится идеологом. Но его идеология предполагает наличие у прозелитов искры Божьей – подобному “учению” не грозит овладеть массами: “…тогда б не мог и мир существовать…”
1999
Опыты Заболоцкого

Николай Заболоцкий – классик, разумеется, но в свете теории шести рукопожатий, отделяющих каждого современника от любого другого обитателя Земли, от меня до Заболоцкого – всего два рукопожатия.
Я был неплохо знаком с замечательным поэтом и переводчиком Семеном Израилевичем Липкиным, который рассказывал, как ему не раз случалось возвращаться под вечер заодно с Заболоцким из Москвы в Переделкино после дня, проведенного в издательских хлопотах. Сойдя с переделкинской платформы, они брали влево и выпивали в ресторане рядом со станцией: Заболоцкий – 150 грамм водки, а Липкин – 100. Мне кажется, что, точно обозначая количество выпитого им и Заболоцким, Семен Израилевич застенчиво подчеркивал разницу в масштабах дарований. Но это я так, к слову.
Заболоцкий настоятельно советовал собратьям по цеху: “Любите живопись…”, находя в этом искусстве исключительный дар запечатлевать движения души. Это необычный совет, потому что поэзия, по расхожему мнению, равняется на музыку. Тем не менее призыв Заболоцкого не кажется просто восторженным возгласом, данью красноречию.
Традиционная классификация делит искусство на виды, исходя из “строительного материала”: словесного, пластического, музыкального. Но можно представить себе классификацию, исходящую из творческого импульса, – и тогда, вполне вероятно, роман попадет в один раздел с симфонией и архитектурным сооружением, а лирика окажется в одном ряду с натюрмортом (“в трюмо испаряется чашка какао…”), портретом, пейзажем.
Во всяком случае, первая поэтическая книга Заболоцкого “Столбцы” представляется словесной ипостасью изобразительного искусства, причем самых разных манер и эпох. Это и первобытные или детские рисунки:
Или нидерландская живопись – стихотворение “Игра в снежки” приводит на память “Детские игры” Питера Брейгеля Старшего:
А то бросается в глаза сходство стихотворения “Футбол” (1926) с “Игроками в регби” (1929) немецкого экспрессиониста Макса Бекмана. Кстати, эти произведения и созданы почти одновременно.
Заболоцкий – один из главных философов русской поэзии. Предмет его повышенного интереса – натурфилософия, в частности – изначальная жестокость мироустройства, великолепие на крови, которое не спишешь на воздаяние человеку за его грехи. Даже медик Чехов с его естественно-научной образованностью под впечатлением от видов, открывшихся ему в морском путешествии, впал в прекраснодушие: “Хорош Божий свет. Одно только не хорошо: мы”. А как же пищевые цепи, на которых Божий свет держится? Сосуществование доброго Божества и зла в мире обосновывается учением теодицеи (богооправдания), но каждый новый свидетель ужаса земного бытия вправе заново ужаснуться и усомниться, если не в существовании Бога вообще, то в существовании милосердного Бога.