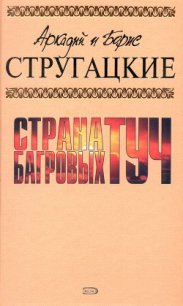О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Возможно ли проскандировать их кукле?! Чудовищно! жестоко! насмешка над поэзией и прямо ругательство, надругательство над ребенком! Евреи, взяв камень и бросив в статую (положим, «Афродиты») — дали знак: «не — ее, а — женщину» (жену), т. е. люби. Теологи же европейские чудовищно истолковали это так, что евреи через это выразили «отвращение к поклонению твари вместо Творца». Как будто не Соломонов храм был увешан гроздиями винограда, не Ааронов жезл дал миндальные цветы, не на одежде первосвященника сделаны были гранатовые яблоки, и не на крышке киота завета стояли «херувимы», т. е. «отроческие существа» по изъяснению слова «херувим» в Мишне; а «два» их было — ибо все «двоится» по «образу и подобию» Четы Сотворившей. Но оставим этот вводный спор о причине отвращения иудеев к «статуям» — и вернемся к халдеям. Как неосязаемы были ночные волнения вавилонянки. Никто к ней не приходил и она сходила наутро с вершины башни только взволнованная. Это была дымка мечты, без всякого осуществления. Греки дали осуществление, солгали, написали то, чего не было, выдумали, начали «Миф» («сказание»).
У Лермонтова «демон» никак не назван. Если бы его спросили, как имя его героя — он был бы поражен. Имя и фамилия? Но, Боже, это — только идея, только метафизическая истина, но в самом деле истина, без прикрас, почти научная и вместе религиозная. Вот на этой-то правильной черте и не удержались греки, прописав паспорт и «особенные приметы» «богу», а когда во II веке до и после P. X. стали рассматривать этот паспорт, то конечно и нашли его фальшивым, по чему заключили, что «ни Зевса, ни Семелы, ни всех этих сказок никогда не было и нет» (критика Евгемера, критика отцов церкви). «Язычество — выдумка! Оно — пусто! Просто — нуль, гладкая доска, на которой только еще предстоит написать религию». Между тем при ложном паспорте неужели не может существовать истинного человека?!
Тот же миф, миф греков о «Зевсе и Семеле», но с осторожным обхождением имени. Евреи, чуткие, точные, не распущенные в воображении, тоже обходят имена, вовсе их не пишут или заменяют не настоящими, заменяют эпитетами, описаниями, похвалами. И у них от этого исключения «паспорта и примет» все цело до сих пор. Но нет ли сходного и даже того же и у них? Евреи хитрее и умнее; евреи — осторожнее: но в пределах той же темы.
Мы вносим труп в храм. Можно и это. Мы воскуряем перед ним фимиам, окружаем его свечами. Невозможно отрицать, что мы ему немножко поклоняемся, лобзаем его «последним целованием» и во всяком случае считаем святым и чистым. Гадок ли труп? — Фу, что за кощунство: конечно, нет! скорее свят, «божок!!» А младенец? «Вот вопрос, конечно — тоже чист». Но можно ли перед младенцем, в люльке, зажечь свечи и, положа ладонь в курильницу, обходить его вокруг и петь… конечно, не «со святыми упокой», но другое, обратное, и соответствующее? «Какая идея, к чему это!» Но ведь и трупу не более нужны, чем ребенку, свечи и фимиам? Конечно — все не нужно, но мы выражаем идею и свое чувство. «Нет, невозможно! Перед младенцем, в люльке, свечи и фимиам? Не могу себе представить». Но отчего? И неужели в самом деле труп, тела бездыханное, це только не физиология, но низшее и худшее, и слабейшее, чем она, именно «то крайнее зло, которое мы называем смертью» (определение Вл. Соловьева) — перед нами, и мы же ведь жжем и фимиам, и свечи перед этим «крайним злом»? — «Это не перед ним, это перед воспоминанием». — «Зажгите и свечи перед младенцем и символ ожидания. Да и неправда, что вы вспоминаете только около трупа: вы именно курите ему фимиам, ибо воспоминать могли бы и запершись в кабинете». Нет, это — религия, другая, новая. Но если возможна она и стало можно поклониться «крайнему злу», смерти, то почему нельзя было поклониться и крайнему благу, жизни и жизнедаянию? Тогда… «боги» и «демоны» переместились взаимно. Что называлось «демоном» — стало «богом», а что было «богом» — стало «демоном». «Древние не совсем пустоте поклонялись — они поклонялись демонам», — говорила в начале новой эры другая половина апологетов, не остановившаяся на словах, что «мифы — сказки, а богов — не было».
«Демону» поклонился и Вл. Соловьев в «Розовой тени», а евреи ему кланяются в «царице субботе»; Лермонтов его же вспомнил, не дав никакого имени. «Не старайтесь: храм Сераписа невозможно разрушить; если он упадет — мир не устоит», — говорили жрецы какого-то египетского храма, когда стены его тряслись под таранами римлян-христиан. Стены дрожали, пали, забыты. Но около них росли пальмы. В каждом их листочке был «серапис»; а в пальме, в роще, в звезде, в римлянине-воине и в египтянине-жреце был Серапис. «Сего нельзя разрушить: если это разрушить — мир упадет».
— Тут в самом деле есть какая-то истина. Generatio equivoca, «самопроизвольное зарождение» — отвергнуто: Цольнер в отчаянии сознался, что единственная возможность объяснить органическую жизнь на земле заключается в предположении, что когда-нибудь первая живая клеточка упала на землю с метеором, т. е. упала из живого же другого мира. Капля за каплей, со звезды на звезду, но где же первое, Кто первый? Так, многодумно покачав головой, мог бы дать свое resume этим мыслям Страхов.
«Демон» Лермонтова и его древние родичи {11}
Лермонтов чувствует природу человеко-духовно, человеко-образно. И не то, чтобы он употреблял метафоры, сравнения, украшения — нет! Но он прозревал в природе точно какое-то человекообразное существо. Возьмите его «Три пальмы». Караван срубает три дерева в оазисе — самый простой факт. Его не украшает Лермонтов, он не ищет канвы, рамки, совсем другое. Он передает факт с внутренним одушевлением, одушевлением, из самой темы идущим: и пальмы ожили, и с пальмами плачем мы; тут есть рок, Провидение, начинается Бог. Это все тоже
но уже переданное фигурно, образно, в драматической сцене, а не отвлеченно. Помню, как еще до поступления в гимназию и не зная, что такое «поэт» и «поэт Лермонтов», я придумал к поразившему меня стихотворению напев и, бывало, уединившись в лес или сад, пел эту песню («Три пальмы»), всегда с невыразимой грустью, как о живых и родных мне пальмах. Лермонтов роднит нас с природою. Это гораздо больше, чем сказать, что он дружит нас с нею. И это достигается особенным способом. Он собственно везде открывает в природе человека — другого, огромного; открывает макрокосмос человека, маленькая фотография которого дана во мне.