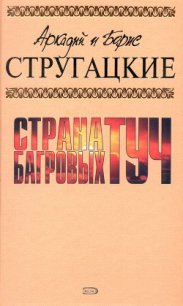О писательстве и писателях. Собрание сочинений - Розанов Василий Васильевич (бесплатные книги онлайн без регистрации TXT) 📗
Но я все отвлекаюсь от его интимности: она и произошла от этой страшной занятости его духа одной мечтой, одним желанием, одной потребностью, которая не находит истока. Тогда не будешь писать романа «в правильных главах». Получится весь тот хаос, который заключается в его 14 томах; но хаос этот везде проникнут таким мучительным шепотом вам в ухо, что вы, забывая более правильные творения, слушаете этого «эпилептика»… как слушали Нуму Помпилия первые пастухи Рима, или слушала Семирамида свою вещую «голубку»… Опять я сбиваюсь от секрета тона: в каждом человеке есть способности, которыми он работает, — память, ум, воображение, мозговая воля, чувство вкуса и меры; и есть середочка души, обыкновенно скрытая у всякого, и которая только изредка и нечаянно прорывается. Все 14 томов Достоевского, где вкуса не очень много, являют эту «середочку» его души. И вот это-то и образует его бесконечную интимность с каждым (соответственным) читателем, который за его книгу берется и который вовсе не читает его, как «литератора», вовсе не видит в нем «писателя», «гору вне себя», а чувствует, что какая-то одна душа реет в нем самом и в Достоевском, душа «возможная и во мне», душа «мною забытая», душа «моя ошибочная», но именно, однако, моя душа, родная; вечная и всеобщая, — и в то же время его единичная, Ф. М. Достоевского. Говоря языком древних философов, в нем было немножко «души мира», частица которой конечно есть «и во мне», есть она в «каждом». И вот эти частицы, при чтении, сливались до безраздельности, до единства; да даже в реальности — они и суть одно. Конечно, это совсем другое, чем писать роман «своею способностью вкуса» или «даром художественного воображения». Какое мне до всего этого дело? Но о Достоевском никак не скажешь: «мне до него нет дела». «До Достоевского» есть дело каждому: ибо никто не может быть равнодушен к своей душе. Достоевский — не «он», как Толстой, как всякий; Достоевский — «я», грешный, дурной, слабый, падший, поднимающийся. По тому, что он есть «я», и при том каждого человека «я» — он встает с такой близостью, с такой теснотой к каждому, как этого вообще нет ни у одного писателя, кроме Лица и Книги, которых мы не упоминаем. И навсегда Достоевский останется поэтому наиболее «священным» из наших писателей, ибо он совершенно перешел грани литературы, отчасти разрушив их, внутренне разрушив, — и передвинувшись в сторону, где вообще все полагают «священное», полагают «религиозное» в первобытном смысле. Дабы кому-нибудь не показались наши слова преувеличенными, скажем, что был «ближе к Истине» разбойник на кресте, нежели Платон в Академии. Все слабости Достоевского— при нем; вся немощь — при нем; и может быть из идей его — ни одна не истинна. Но тон его истинен, и срока этому тону никогда не настанет.
Он говорил, как кричит сердцевина моей души.
Как тоскует душа всех людей в черные и счастливые минуты…
Когда мы плачем…
Когда мы порываемся…
Когда мы клянем себя…
Все, все это — у нас, как у него, который был «так близок к Истине», что это составляет чудо его личности и биографии, которого с ним никто не разделил.
Загадочная любовь (Виардо и Тургенев) {72}
В высшей степени интересно то, что рассказывает или, вернее, разыскивает г. И. Гальперин-Каменский относительно романа Тургенева и Виардо. Всегда и многих уже давно занимал вопрос: было ли в этом романе что-нибудь физическое? Уже по тому одному, что любовь тянулась от 25-летнего возраста Тургенева до его смерти, а о связи все-таки спрашивают, и спрашивали себя все, близко обоих их знавшие, с очевидностью показывает, что связь была в высшей степени призрачна, неправдоподобна, что ее не было или почти не было, и все сводится к этому «почти», которое может быть равно или «нолю», или «чему-нибудь»… Вопрос, изыскание и любопытство относится именно к «малому», к «бесконечно малой исчезающей величине», как говорят математики.
Я назвал «любопытство», но в хорошем, достойном смысле. Было бы унизительно для историка, для критика и литератора добиваться этой «биографической подробности о Тургеневе» и в высшей степени оскорбительно для самих Тургенева и Виардо: кто имеет право копаться в таких интимностях двух частных людей, с своею честью, которую не смеют оскорблять и после смерти? Раз они сами этого не сказали, никто не вправе искать о них, узнать это. Но, мне кажется, любопытство здесь другое. Даже неинтересно никому узнать, — «что же именно было между Тургеневым и Виардо». Истории принадлежит и истории любопытен их гений, их мысли, их оценка жизни и людей, — и только. Дальше ее любопытство вовсе не простирается. Да, но только «ее». Мы назвали любопытство это «благородным» потому именно, что тут «Тургенев» и «Виардо», литература и пение, не играют никакой роли, а встретился поразительный феномен отношений двух любящих людей, мужчины и женщины, холостого человека и замужней женщины, матери семейства, который есть явный «сфинкс» уже по тому одному, что о присутствии физической связи спрашивают.
Ведь она так естественна? Ведь почти невероятно жить сорок лет в семье, быть «любящим и любимым», хотя бы и не пламенно, не горячо, и не «иметь связи», иначе, как в духе, в воображении, в «Союзе сердец» в романтическом смысле, без всякого физиологического привкуса и осложнения. Но, очевидно, было что-то странное в отношениях, что поражало всякого, приближавшегося «к семье Виардо с Тургеневым», что они откидывали это естественнейшее, это нормальнейшее предположение и, «повидав», не утверждали, а начинали спрашивать: «Неужели ничего нет!»
Повторяю, никто при такой степени близости, при этой жизни «под одною кровлею», в «одном гнезде», не спрашивает. Все «знают» и ничего не говорят. И не любопытно, и слишком ясно. В артистическом же и литературном мире, где есть и неотъемлемые «особые права», никем это и не осуждается. «Не всем по-замоскворецки жить».
Отношения Тургенева и Виардо были явно анормальны. Это какой-то особенный феномен любви, страшно редкий, трогающий нежностью, глубиной, продолжительностью до «вечности» и без всякого субстата в себе материи. Какая-то «радиоактивная» любовь. Известно, что радий «производит работу», но на нее не тратится: исцеляет, обжигает, светит непрерывно, а сам все «цель» и «тот же». Это чудо, открытое впервые в радии, поколебало даже «закон сохранения энергии», аксиому всего естествознания. В любви Тургенева есть эта же радиоактивность: любят, живут друг с другом, постоянно беседуют, говорят друг с другом, он слушает ее, она читает его произведения, — и не устают, не соскучиваются. Совершенно неприменима формула Лермонтова, такая страшная для любви, такая ужасная для всех истинно и глубоко любящих:
Ужасна эта «усталость» и «скука», заволакивающая почти всякую семью, на 10-й, на 20-й год жизни. Но «невечность любви» есть почти поговорка о любви, ее в своем роде «закон сохранения энергии», или, в этом частном применении, «закон траты энергии». Она вечно та же, пока в «совершенной работы»… В этом, ведь, и заключается «закон сохранения энергии». Она — вечно та же, пока в покое, а как начала работать, — тратится, исчезает. В сущности, она «переходит в работу». И любовь, давшая «крылья» любовникам, сдвинувшая их с места, связавшая в семью, далее одушевлявшая на всякий подвиг и ежедневный труд жизни, и «переходит в это», в «груду сделанных дел», в «детей», меняясь и исчезая в своем первоначальном предбрачном виде, в этом розовом эфирном виде.