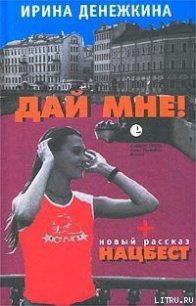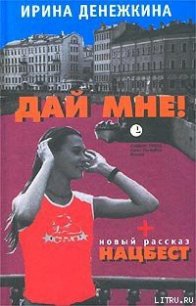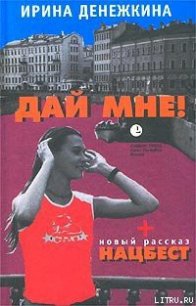Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
Маканин – не бытописатель; о барачно-поселковом слое жизни из его книг узнаем либо по резким и обрывистым зарубкам в памяти («Повесть о Старом Поселке»), либо в форме философической стилизации (Аварийный поселок из повести «Где сходилось небо с холмами» – это уже надбытовой символ человеческой общности лицом к лицу со смертью). Однако в жизни обитателей его мира «барак» всегда сохраняет значение целой исторической полосы; он одновременно и социальная травма, вроде укола шпорой дающая стремительный разгон к «месту под солнцем», и мерка неподдельной жизни, позволяющая выявить в продвижении к лучшим местам момент духовной утраты. Во всяком случае, где сквозь объективность маканинского повествования пробивается лирическая струя, там, как можно догадаться, он обнаруживает себя в некотором роде посланцем этой среды, мысленно воображает «их» суд, дорожит этим судом и боится его. Так было в первом, наивном романе «Прямая линия», так оно есть и в зрелой повести о музыканте, находящем некую обратную связь между собственными творческими достижениями, собственной известностью и безвестным исчезновением, стандартным перерождением воспитавшего его поселка. «… Со мной говорили мягко и всегда до конца выслушивали, потому что я был хуже всех одет и обут, и давали мне ноздрястую горбушку хлеба, и тут же говорили, что я молодец, – хорошо учусь, – и гладили… мальчишеский чубчик, и я чувствовал затылком морщины на их руках…» («Прямая линия»).
3
Обыкновенно Маканина считают заправским «психологом», хваля за это – или порицая, ежели в таковом преимущественном интересе усматривается невнимание к социальному масштабу жизни. Однако вот кто, кажется, мог бы повторить вслед за классиком знаменитое достоевское: я, дескать, не психолог. Самый строй маканинской прозы, от раза к разу все более сгущенной и даже конспективной: слух, скрещение версий, краткие промельки чьих-то мыслей и чувствований, беглые записи будто бы неосуществленных сюжетов – все то, что в «Портрете и вокруг» названо «камешками» (или иначе – «штришками»), – просто не оставляет места для развернутых описаний душевной динамики. Все «как» остаются за кулисами, в таинственных потемках души человеческой. Нас осведомляют о поступках, реакциях, вывертах – главным образом, о том, что возникает на «выходе» из этого черного ящика. Но если вчитаться, многое узнаешь и о том, что на «входе». И не заметишь, как станешь на путь слежки, детективного расследования человеческих мотивов, которое в «Портрете и вокруг» изображено так грубо и мелкотравчато (с досье, опросными листами и тайным магнитофоном) и так тонко внедрено в склад более совершенных произведений Маканина.
Коронная область писателя – не психология, а социальная антропология, «социальное человековедение». Каждая индивидуальность имеет у него свои стойкие корни в специфическом слое и укладе (как раз обратно тому, что писалось об «обрубленных корнях» и связях этих лиц). Героев без роду и племени почти нет; даже в небольшой повести, в анекдотической истории автор рад ввернуть, кем были родители высвечиваемого лица, и намекнуть, кем, скорее всего, станут его дети.
Про инженера-мебельщика Михайлова (повесть «Отдушина») для начала сообщается с обычной у Маканина невозмутимо-снижающей интонацией, которая сигнализирует о закоренелом духовном непорядке: «… для Михайлова самое время любить – у него жена, у него приличный заработок, а два сына уже заканчивают школу… и старушка мать, еще в общем живая». Вводной фразой персонаж характеризуется как стандартное и самопопустительское – равняющееся на «всех» – существо. Эта готовность к «роману» между пятнадцатым и двадцатым годом прочного брака, когда дети уже выросли, а устройство их будущего с сопутствующими треволнениями покуда не отвлекает от внедомашнего любовного сюжета; когда мать еще жива, еще загораживает тебя от твоего срока стареть на подступах к могиле, а немощи ее посреди суеты тебя не слишком волнуют, была бы жива «в общем»! «Легко, в одно касание» (как выразилась И. Соловьева о маканинском способе писать «среду»), дан срез определенного образа жизни – но пока дан как наличность столь неподвижная и сама собой разумеющаяся, что впору здесь-то и заподозрить печальное «примирение» с такого рода «действительностью». Однако впечатление это опровергается. Не только экстраординарной фабулой – обменом любовницы на ценную для «основного» семейства услугу (так из не самого пакостного, «не хуже, чем у других», существования тихо возникает давящий душу позор). Корректируется оно и заключительным, бросающим обратный отсвет штрихом. Вот Михайлов, расставшийся со своей Алевтиной, заморенный левой работой добытчик (всё для «сынов»!), поздно вечером возвращается домой и, прихваченный сердечным приступом, карабкается по лестнице на четвереньках: «Всего-то на третий этаж… Коленями и руками, работая поочередно, Михайлов перебирается еще на четыре ступеньки вверх. Еще малость, еще немного, говаривала безмужняя мать, когда она и маленький мальчик тянули в гору салазки на деревянном ходу с полмешком муки, и он ни разу не вспомнил матери, как она эту муку зарабатывала, выводя Пашеньку в люди». Почти рефлекторно, стихийно проделанный Михайловым житейский «путь наверх» (сам-то он, впрочем, в семя пошел, но «сыны», обихоженные и огражденные, гордо вступят в жизнь с университетскими значками) – этот путь здесь одновременно и объяснен, и скомпрометирован малой подробностью. «Безмужняя мать» с подозрительным полмешком муки, во всем правая, хоть и виновная, должно быть, – не только тягостное, но и святое воспоминание. Добираясь до удобной, теплой жизни, Михайлов как бы изменяет вскормившему его слою с его выносливостью, готовностью к жертвам и нешуточным испытаниям. Он нравственно опустился по сравнению со своей матерью, чем бы она там ни промышляла. Но разве не здесь же, в материнской среде, получил он свой разгон, обещающий вынести его сыновей к престижным высотам? Объяснением отчасти смягчается приговор, но не снимается вопрос – зачем? Куда ведет это семейное движение, начавшееся на горьком послевоенном пределе человеческих сил и уже в следующем поколении способное разменяться на такую жизнь с расчетом и вполсердца, как у Михайлова? Что станется с его сыновьями, вышколенными отличниками, которые, разумеется, не догадываются, что их блестящий и влиятельный репетитор оплачен не только почасово, но и аккордно – уступленной ему женщиной? И за что задевает в «Ключареве и Алимушкине» авторская ирония, слышная всякий раз, когда речь заходит об отпрыске-девятикласснике, «делающем большие успехи в спорте, точнее, в спортивной гимнастике»: «На перекладине он получил девять и семь – удивительный результат для юноши. Им заинтересовались известные тренеры… – Молодец, сын! – так сказал Ключарев…Он держался гордо. И в то же время весело. О нем так и хотелось сказать – Ключарев, сын Ключарева». А вот в сравнительно ранней «Повести о Старом Поселке» предшественник этого Ключарева-отца разыгрывает с собой самокопательский диалог: «Куда, говорит, ведешь ты свой род, человече?.. Да так, говорит, без особого направления. В основном, говорит, вверх. Куда же еще, там, говорят, помягче… Н-нда».
Обдумывая эту, в общем, простую мысль, писатель чутко различает бытовые, затрапезные, необъявленные цвета времени, ощущаемые наряду с эпохальными, официально сформулированными этапами и периодами. «Мебельное время», – пустил он в семидесятых годах, и критика охотно подхватила. А в «Предтече» автор выводит как бы твердой рукой летописца: «Становилась иная пора. На службе и дома, в застолье и в городском транспорте люди все больше говорили – о здоровье». В самом деле, обмен рецептами и травяными смесями, вести о беге и голодании, медицинские термины, выговариваемые самыми простецкими устами, – всему этому, ставшему привычкой, и значения-то никакого не придаешь, пока не заметишь, с опорой на Маканина, что это симптом, расцветка «иной поры». Симптом чего? Не только длительного мирного «облагополучивания» (неологизм А. Бочарова), когда наконец и до здоровья руки дошли. Но и – незнакомого в такой степени прежде – страха смерти.