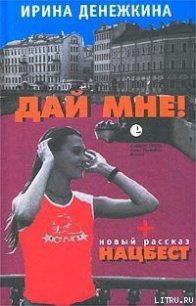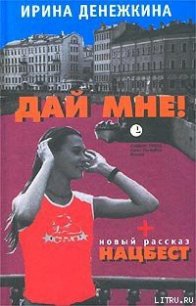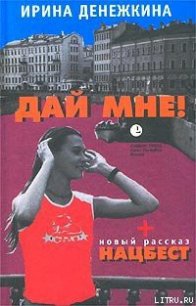Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
Не буду перечислять неблагообразные проступки Монахова – они только следствие главного греха и беды: уплощения и овнешнения жизни. Толковый столичный инженер, умеющий себя показать, «взрослый солидный человек, с семьей и положением» (исправно дотягивающий свои, на чей-то безличный вкус удачные, женитьбы до внутренних критериев любви и влечения), он между тем знает, что в эти плотно облегающие обстоятельства его засунули в юности («родители, институт, жилплощадь, деньги, иждивенство и мальчишество»), упрятав от «другой жизни, главной и живой» (помнится ему – должна быть такая, ведь Ася приключилась с ним не зря, а чтобы показать, намекнуть). Самые невинные сценические эпизоды «роли» – скажем, «будущий молодой отец», трогательно объясняющийся знаками с женой под окошком роддома, – до сих пор даются ему с мучительной натугой. Его «внутренний человек» вопит и стенает взаперти: «… добивался, колотился, жизнь прошла в одних успехах: школу кончил, аспирантуру кончил, диссертацию и ту защитил, – и что? Какими-то невидимыми линиями себя обвел: семья, работа… А без них он кто? Есть такой Монахов или одна прописка да должность?»
Все грехи, измены и предательства Монахова – робкие, в сущности, и заранее обреченные попытки выйти в некое «надролевое» пространство, где он встретился бы наконец со своим подлинником, с «неоспоримым, безвоздушным собою». Эти его кайфы и срывы, «объективно говоря», – не более чем тривиальные интрижки; но учтите, когда он возвращается на торную тропу «роли», он гораздо непригляднее: «… довольство собой, своей женой, своей жизнью, которая, не получаясь и распадаясь каждый день, все-таки получается в сумме этих дней» – эта оптовая и внешняя самооценка услужливо маскирует нравственный недобор каждого дня, жизненный недобор настоящего мига. И когда естественный детский солипсизм (Алеше, сокрушенному стыдом и обидой, воображается, что он принц, от которого скрывают тайну его рождения), когда юношеская острота самоощущения вытесняются приспособительным житейским опытом и слабая душа человеческая забывает о своем царственном происхождении (намек на это – разговор о фамилии «Инфантьев» в пятом рассказе цикла), – логику чувств и поведения начинает определять посторонний рисунок «роли» (службист, семьянин, пассажир, командированный и мало ли кто еще), а на долю «другой», «главной» жизни остается «антиповедение» – тайные нераскаянные срывы да ностальгические уколы в груди. Так, чем дальше, тем осадистей вкатывается Монахов в свою житейскую лунку, выдумывая себя деревом в лесу, но не вырастая вверх…
Напоминаю, Битов – прозаик со своим «авторским героем». Это значит – с таким, чье сознание служит окном в реальность и чей внутренний мир всегда обнаруживается непосредственно (а у других персонажей – только косвенно, по данным, полученным от этого главного лица), ибо ценен для писателя как родственная душевная структура и как практическая модель самоанализа. В таком случае, любит ли Битов своего Монахова? Нет, не любит. Но как не любит? Так, как Лева Одоевцев не любил Альбину: не любит, «как себя». В зоркость и истребительность такой нелюбви можно поверить – та глубина, куда проникает ее жало, чужому глазу вообще недоступна. Битов ни разу не прибегает к обаянию как к средству примирить читателя с изъянами в облике главного лица – напротив, нудит своего героя выложить о себе худшее и повернуться под наименее выгодным углом зрения. Кое-что писатель, кажется, мог бы поставить ему в заслугу: например, то, как Монахов – посреди забывшей об «инциденте», рвущейся на посадку толпы – смущен и печально размягчен недавней гибелью человека. Но нет, Битов и тут самым ядовитым образом компрометирует чувствительность героя: сокрушающийся Монахов не упустил своего – «ринулся в самую гущу толпы. И вышел победителем в борьбе за трап». С Монахова только справшивается – так точнее, так нужнее и писателю, и нам. Писатель отказывает герою в возможности взять у себя реванш, оставляет его наедине с «неизбытыми, как недвижимость, грехами», чтобы глубже вонзалось в него острие самоказни: «… ведь это же я делаю каждый день! Больше, меньше, но каждый день…» («Пенелопа»). Но верно и другое: от этакого Монахова вообще не дождешься искупительного и созидательного поступка, – и уставший от безнадежного ожидания автор к нему заметно охладевает, постепенно отторгая от себя и оставляя перед лицом читателя без средств обороны.
Так что в качестве усыхающего «авторского героя» Монахов проделал длинный путь – от почти Вертера до почти Самгина. Об этом сигнализирует уже стилистика «Третьего рассказа»: Ася «кокетливо хохотнула», Монахов «выпрямился, надулся и поелозил в кресле» – после «Сада» такая проза! (Думаю, и некоторый художественный просчет). «С чеканным профилем стал натягивать брюки…» Бедный Монахов – за ним подглядывают! «Со всем нажитым барахлом внутри» он уже не годится в посредники между писателем и картиной мира, зрение его помрачилось, и автор стал по-репортерски высовываться из-за его плеча, бесцеремонно перебивая и комментируя: «Следует в пользу Монахова отметить…», «Все это, повторяю, смутно и неопределенно…», «… подстерегало его нечто, чего никто – ни вы, ни я – предположить не могли бы…», «Сразу оговоримся…» и прочая. Думаю, Битов не побоялся вконец опустошить и бросить Монахова (слегка утешив аллегорией «леса»), потому что к тому времени в его распоряжении был уже новый «антигерой», на сей раз интеллигент из литературно-академических кругов – Одоевцев. Рисунок Левиной души тоньше, рафинированнее, «гуманитарнее», но авторская нота по отношению к нему сразу же взята иронически-трезво, а покровительственное вмешательство авторского голоса в ход рассказа указывает на его, автора, зрелое, в сравнении с близкородственным персонажем, старшинство. Все здесь – «в резком, неподкупном свете дня», в том числе и очередная версия зыбкой Аси – Лёвина Фаина, новоявленная Манон с отливом беспардонности. Притом раздробленность Лёвиной личности на функции, размазанность по жизни еще видней, чем в истории с Монаховым. Вот семья героя, вот профессия его, вот любовь, вот нелюбовь, вот соперник-приятель – в каждом повороте у Левы, увы, новая «роль», новая изолированная грань существования. И что еще в Леве очевидней – характерное для битовского героя неблагополучное противоречие между стыдом и совестью – между непрерывным учетом чужого оценивающего взгляда при исполнении роли и образом внутренней нравственной нормы. Лева стыдится перед неразборчивой Фаиной, перед безумным циником Митишатьевым своей совестливости и неготовности к применению «силовых приемов», а между тем, заглядывая в себя поглубже, совестится своих «комплексов», этого своего недоброкачественного стыда. Он тоже, как и Монахов, отреченец, себя позабывший «принц»; испытывая зависть к цельности (чем и вдохновлена Лёвина статья о гипотетической зависти Тютчева к Пушкину; не так ли в «Колесе» у Битова-«путешественника» серебряные призеры спидвея, умники-ленинградцы, тускнеют в сиянии золотых призеров, цельно-почвенных уфимцев?), он охотно принимает за цельность чужую нахрапистую силу.
А все же Лева чище Монахова, в нем больше от «образа», чем от «роли»; пресловутый «опыт» плохо пристает к нему, отшелушивается то и дело. Рядом с ним – «дядя Диккенс», человек высокой пробы, испытавший поистине адские давления жизни, истории – и до смертного конца не позволяющий себе рассыпаться грудой обломков. Но, с умилением и разочарованием прочитав его интимную прозу, Лева понимает, что душа эта – наивная, как засушенный цветок, – не годится уже в образцы, так что остается «постигать все самому в формах, предложенных его временем».
Трудно Леве, трудно Монахову… О вине и ответственности личности нынче любят говорить, заручившись союзничеством Достоевского, недоверчиво посмеиваясь над пустыми ее самооправданиями: мол, «среда заела», знаем это, слышали. Позвольте слегка перегнуть палку в другую сторону. Давно уже замечено, что сложная организация современной жизни – все эти неминумые профессионализмы, урбанизмы, постиндустриализмы – имеет способность дробить человека на спецумения, навыки, привычки, хобби и вместе с тем обкатывать его так, чтобы не было с ним заминок в функционировании многосоставной системы связей, обеспечивающей его необходимым и потребным, включая и высоко ценимый комфорт («новенькая жена», «молоденькая квартира», как формулирует Монахов, нисходя в глубины самоиронии). Давно и с тревогой замечено также, что в современной технической цивилизации, где больше, где меньше, есть элемент расхитительства – не только природы, но и любых накопленных прошлым ценностей, потребляемых как китч и потому перестающих быть жизненными ориентирами. Все это болевые точки остро ощущаемого ныне цивилизационного перелома.