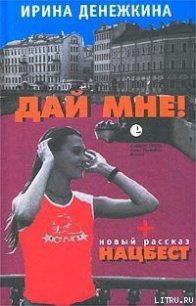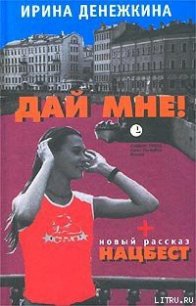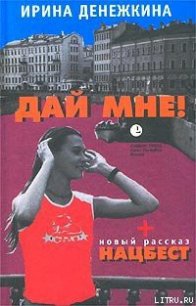Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
Не мешает припомнить, это ли имел в виду Шкловский – сочинитель «гамбургской» параболы (имевшей, как комментирует А. П. Чудаков, реальную основу в устном рассказе циркового борца Ивана Поддубного). В ней описан способ, каким будто бы можно освободить художественную среду от диктата сторонних ей (ложных или лживых) оценок. Когда борцы работают на публику, они «жулят и ложатся на лопатки по приказанию антрепренера (курсив мой. – И. Р.)». Чтобы выявить действительно сильнейшего, приходится хоть иногда устраивать соревнование в отсутствие антрепренера – в том самом, как все помнят, гамбургском трактире, в комнате с закрытыми дверями и занавешенными окнами. Там-то и выясняется, кто чемпион – признанный своей профессиональной средой.
Нельзя не заметить, что при переносе этого поучительного рассказа из мира спортивной борьбы (ютившегося тогда на цирковых аренах) в куда менее осязательный мир литературы кое-что становится неочевидным. И дело не в том, что гамбургский счет, тут же выставленный Шкловским современникам (Серафимовича и Вересаева как писателей нет, Булгаков – тогда автор «Роковых яиц» – «у ковра», Бабель – легковес, Хлебников был чемпион), может сегодня кого-то не убедить (мне составитель списка как раз кажется неплохим угадчиком). Вызывают недоумение непредставимые даже аллегорически «единоборства» (Хлебников, в поединке за первое место одолевающий «сомнительного» Горького…), да еще отсутствие рефери, которого ведь по условиям рассказа не предполагается, тем более что он может быть куплен антрепренером. Выходит, весь расчет – на великодушие литераторов-«борцов», привыкших меж тем, чтобы «каждый встречал другого надменной улыбкой»?
Те, кто с доверием принимал притчу Шкловского в ее наглядных подробностях, натыкались на подводные камни. К примеру, с Михаилом Бергом спорил по этому поводу Никита Елисеев. [309] По Бергу, – его занимала «диссидентская» и «андерграундная» импликация гамбургского сюжета – истинный счет выставляется в «независимых» референтных группах, плюющих на могущественного идеологического антрепренера, и в каждой группе – свой. Гамбургский счет – это успех у своих. Самое же любопытное, что, по Бергу, «свидетелями победы могли быть сами борцы и немногочисленные свидетели из особо посвященных». Так в неплотно, видимо, закрытую трактирную комнату пробираются новые лица. В посвященных легко опознаются заводилы «неформальных» групп. Что касается Елисеева, он старается следовать Шкловскому буквально. Никаких рефери! Из числа «посвященных» – тем более. Писатели, достигшие успеха, знают сами, чьи достижения, не оцененные по достоинству, стали фундаментом их мастерства и славы. Хемингуэй и Фолкнер обязаны Шервуду Андерсону (по собственным признаниям этих успешливых). Но тот остался в тени. И не будь высшей оценки из среды самих «борцов», мы бы не узнали его истинного класса. Неудачники в гамбургском реестре впереди удачливых. Хлебников – неудачник, нищий, умерший в глухомани. Хлебников – чемпион!
Боюсь, Шкловский ничего такого в виду не имел. Хлебников был для него чемпионом не в силу непризнанности, а по тому, что его «референтная группа» видела в Хлебникове лидера новой поэтики. Но эта группа («мы формалисты», как сказано ниже на страницах той давней книжки под названием «Гамбургский счет») не собиралась, вопреки схеме плюралистичного Берга, полагать себя одной из. Речь шла об абсолютном, или по крайней мере исторически объективном, критерии, который находится в руках… у кого же? Да у этого самого рефери, невзначай просунувшегося в трактирную дверь! У Шкловского, который в своем этюде берет на себя роль эксперта, а не участника соревнований (хотя сам был отличный писатель, что и говорить). Очень ловкий фокус (следите за руками). Нам подсунули свидетеля единоборств, проставляющего баллы именем очень туманной, можно сказать, трансцендентной, инстанции.
В оправдание иллюзиониста можно сказать только одно. Так испокон поступали все критики (не исключая вашу покорную слугу). Они исходят из того, что есть, есть истинный критерий истинного искусства, именуемый, с легкой руки Шкловского, гамбургским счетом, а ранее носивший многие другие имена. Но… В Страшный Литературный Суд, напророченный Татьяной Толстой, верится куда слабее, чем в Страшный суд с менее специфическими полномочиями. Насколько знаю (хотя сама писала статью «Вечные образы» в некий литературный словарь), ни одно мировое верование не сулит в грядущем окончательной разборки культурных накоплений, из коих одни уподобятся в своей онтологической незыблемости Платоновым эйдосам, а другие отправятся в геенну, где, как ведомо, сжигают хлам. На сей счет могут быть только частные мнения, не убедительные ни для богословов, ни для вольнодумцев. «Нет указаний ни на земле, ни на небе», – как сказал бы Сартр.
Между тем уверенность в реальном, здесь и теперь, овладении «гамбургским счетом» захватывает литературную саморефлексию на переломе эпох, периодов. Не станем тревожить «Поэтику» Аристотеля, стихотворный трактат Буало, «Лаокоон» Лессинга. Достаточно вспомнить «Литературные мечтания» Белинского, открывшие послепушкинский период в русской словесности, выступление Мережковского «О причинах упадка и о новых течениях в современной русской литературе», открывшее эру символизма. Это не нормативные сочинения, не «Ars poeticae», но и они порываются расставить всё и вся по ранжиру с трансцендентной линейкой в руке. Хочется назвать такого рода сочинения «пассионарными» (не смущаясь замусоленностью слова). Это совсем не то, что нынешние вялые рейтинги от Гольдштейна – Пепперштейна, где просчитанная политкорректность слегка подперчена одиозными на разный лад именами Николая Островского, Ильи Зданевича, Юрия Мамлеева (в роли главных авторов века). Нет, пассионарные акции отличает прилив свежей доказательной энергии, и от учиняемой ими переоценки ценностей всегда что-нибудь остается для будущего.
«Гамбургский счет» Виктора Шкловского и вся его литературно-оценочная работа 20-х годов – того же поля ягода. Как бы он ни был резок и пристрастен, нельзя сказать, что он хоть раз попадает в «молоко». «Успех Михаила Булгакова – успех вовремя приведенной цитаты»; Федин на фотокарточке «сидит за столом между статуэтками Толстого и Гоголя. Сидит – привыкает»; «Горький очень начитанный бытовик»; «Смысл приема Бабеля в том, что он одним голосом говорит и о звездах и о триппере». О «Вестнике Европы»: «Сто лет печатался журнал и умудрился всегда быть неправым, всегда ошибаться. Это был специальный дренажный канал для отвода самоуверенных бездарностей». Вера в то, что только сейчас, на кончике его пера, открылось, как надо и как не надо, – вера эта у Шкловского образцово-наступательная.
Кто в культурно-значимый час не пробовал себя на этом ристалище, тот не критик по призванию. Истинно пассионарной была деятельность Андрея Немзера в исходной версии газеты «Сегодня», когда он из номера в номер в азартных и красноречивых монологах выставлял свой счет литературным новинкам (тут-то его обозвали «человеком с ружьем»; злилась подчас и я, когда наши счета уж очень не сходились). Это было начало «замечательного десятилетия», начало новой свободной литературы, впервые количественно и шумно потеснившей «возвращенную».
Почему же эта недавняя и давняя вольтижировка, которой и я сама занималась, и сочинители почище меня, и умы, до коих мне вообще не дотянуться, – вызывает у меня сейчас гримасу разочарования? Разочарования, равносильного признанию, что в условия профессиональной задачи, решаемой всю жизнь, вкрался какой-то подвох. Ведь начиналось все с того самого задора: снять повязку с глаз публики, смело выговорить вслух эстетически неоспоримую правду, спросившись у своего неподкупного внутреннего чувства. Позднеоттепельным 1962-м я дебютировала в текущей критике статьей «О беллетристике и “строгом искусстве”» (часть названия, забранная в лапки, – из чтимого Белинского). Основное среди заявленного там и подкрепленного «разборами»: что беллетристика (тогда это была продукция не столько доходная, сколько официально приемлемая) идет навстречу примитивным читательским изготовкам, а «строгое искусство» понуждает читателя подтянуться, увлекая его за собой, к высям главных жизненных вопросов. И что та и другая мотивация различимы стилистически, едва ли не по первым же попавшимся на глаза абзацам. Тогда я, надо сказать, была расслышана «оппозиционной интеллигенцией»: еще один, новый голос в рядах эстетического (волей-неволей идеологического) резистанса. То, что будет высказано ниже, сведется к признанию нынешней недееспособности отважных заявлений, сделанных почти сорок лет назад.