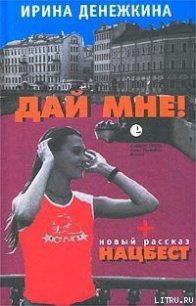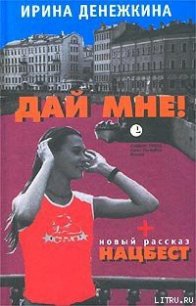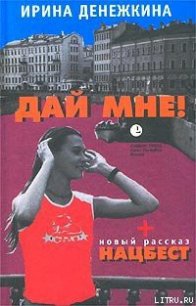Движение литературы. Том I - Роднянская Ирина (лучшие бесплатные книги .txt, .fb2) 📗
«Поворот» трактуется по существу единообразно, хотя то в холодном, то в горячем ключе.
В горячем – это когда недавняя «другая литература» (обозначенная так выдержанным С. Чуприниным) переименовывается энтузиастом М. Эпштейном в «последнюю литературу», соприсущую «эсхатологически чистому запределу» (комбинация слов, убеждающая, что наряду с мандельштамовским «блудом труда», о котором Эпштейн вспомнил в одноименном эссе, существует еще и «блуд метафизики», или «блуд с метафизикой»; сей «блуд», к примеру, извлечен из статьи Эпштейна «После будущего. О новом сознании в литературе» в № 1 «Знамени» за 1991 год.) По поводу «последней литературы» («дальше – тишина», тишина и немота всеми заброшенной свалки) можно, кстати, заметить, что желание оказаться «последними» и даже «хлопнуть дверью» перед носом тех, кто грядет за тобой и просится в жизнь, свойственно мировым диктаторам, «патриархам», чья осень уже перевалила на зиму и кому «ничего не жаль». Думаю, что такое концентрированное желание вовсе не характерно для нашего пестрого авангарда-арьергарда, на который опирает свои рассуждения Эпштейн; оно скорей сродни душе самого критика, стремящегося тралами все более замысловатых схем до конца опустошить жизненное море, так чтобы никакого улова отныне там не предвиделось. Как исподволь выясняется, речь идет не о «последней литературе», а о захвате «последнего слова» литератором-узурпатором. Наше спасение, однако, в том, что одни схемы с другими не в ладу, и в пределах той же статьи Эпштейн, соблазняясь популярной мифологией «вечного возвращения», забывает о – секунду назад предвещенном – абсолютном конце и пророчит близкое начало очередного цикла в российской литературе, с неизбежностью повторяющего прежние…
«Эсхатологическую» перспективу поворота литературного колеса, возможность того, что оно соскочит с оси и откатится в канаву (а что есть его ось? – вопрос вопросов), – эту перспективу и эту возможность я обсуждать не стану. Светопреставление (и связанный с ним конец культуры, а значит, и литературы) – за семью печатями для нас. Приближение каких-то конечных времен и сроков наша «постхристианская» цивилизация чувствует уже в течение целого столетия, и предсказания на этот счет, огласившие начало века, остаются столь же внушительными, как и пророчества, в которых нет недостатка на исходе столетия-тысячелетия. В Евангелии сказано, что близость конца можно и нужно различать по видимым признакам, подобно тому как по внешним приметам заключают о перемене погоды; и там же говорится, что время то не дано знать никому, «кроме Отца». Сознание, вовлеченное в эсхатологический подход к истории, вынуждено принять эту антиномию как таковую – как одну из многих потрясающих евангельских антиномий. Жизнь есть и длительность и конечность одновременно. И литературная жизнь остается для нас длительностью, непрерывностью, преемственностью, хотя признаки конечности могут насыщать ее все больше и все ощутимей.
А теперь – о том же, но трактуемом в ключе уравновешенном и прохладном. Проблема обозначается так: нынешняя утрата русской культурой ее традиционной «литературоцентричности» и, соответственно, утрата литературой центрального места в сегодняшнем культурном пространстве. «Литературный процесс уходит из литературы в нелитературу: в политику, философию, религию…» – формулирует М. Эпштейн. «Очень долго вслед за Герценом мы считали, что литература в стране, лишенной политических свобод, заменяет собой народное представительство, вынужденно включая в круг своих интересов и забот философию, политику, даже экономику», – так И. Дедков в той же журнальной книжке переводит на язык добропорядочных людей поп-артовское заявление Эпштейна о том, что отечественная литература до сих пор являла собой «совмещенный санузел». «На наших глазах происходит знаменательный процесс – наше общество впервые за два почти столетия перестало быть литературоцентричным»; «… литература сдвинулась вдруг к периферии» – это реальность, от которой советует «не заслоняться» М. Чудакова.
Здесь завязан узелок, тесно сплетены две нити, две тенденции, которые во имя ясности следует различить. Суть первой в том, что, опять-таки словами Чудаковой, можно назвать «раскрепощением литературы от внеположных ей функций». Поставим это под вопрос, но заодно отделим от другого. Другое же связано с местом художественной культуры, искусства (следовательно, и литературы как искусства) в новоевропейской и русской цивилизации – местом центральным или периферийным? Итак, в первом случае мы имеем дело с прежним, исторически обусловленным выходом изящной словесности за границы искусства и нынешним, якобы всем уже очевидным возвращением ее в эти границы. Во втором – с оттесненностью литературы на окраину культурной жизни именно в силу ее возврата к чистому артистизму, который, как считается, не может занимать современное общество всерьез.
Подвергай все сомнению – даже признанное бесспорным. Я позволю себе усомниться в том, что русская литература учила, как жить и что делать, и занималась всем другим ей «внеположным» главным образом потому, что остальные формы коллективного самосознания были скованы внешней несвободой. Так могло казаться Герцену, оборотившемуся вспять на николаевскую эпоху, но с тех пор много воды утекло, и мы вправе все взвесить снова на весах фактов. Начиная со времени великих реформ в России бурно развивались и научные, и публицистические жанры: и правоведение, и политические дисциплины, и статистика; общество зачитывалось и сочинением Сеченова о рефлексах, и переведенным Дарвином, и Берви-Флеровским; Писарев со своими «реалистами» еще тогда провозглашал вытеснение литературных забав в дальний угол, – а о более поздней эпохе, между двух революций, когда расцвела русская философия и, с другой стороны, политическая публицистика, захваченная, как и сейчас, текущим моментом, – об этом периоде как «литературоцентричном» в силу суровой необходимости – и говорить смешно. Действительно политические институты находились в зачаточном или незрелом состоянии, выражением гражданской жизни служило письменное (а не произнесенное «на форуме»), журнальное по преимуществу, слово, но оно свободно могло и не быть словом писателя, художника, занявшегося «не своим», учительным делом. А между тем писатель на Руси и впрямь, независимо от постепенного приращения гражданских свобод и раскрепощения общественной мысли, оставался пророком и учителем; в этом с ним не могли соперничать ни политик, ни врач, ни естествоиспытатель, ни военный, ни священник, ни революционер. Общество влеклось к нему как к центральной фигуре – уже не в силу внешней стесненности, а следуя внутренней тяге. Почему?
Ответ, вероятно, отыщется не в социально-политической, а в духовной области. Источником расцвета, а со временем, быть может, и трагедии русской литературы стало то, что она натуральным и неприметным образом влилась в полость, оставшуюся от церковной кафедры, от амвона, с которого учили патриархальное общество церковные святители и служители. В ходе секуляризации литература стала как бы второй русской церковью, квазицерковным институтом для «образованных сословий». Притом что нити, связывающие ее с Церковью настоящей, не обрывались или не вполне обрывались – и это питало ее прямо или косвенно. Не надо думать, что такое попадание литературы (поэзии, словесного искусства) «не на свое место» – исключительно русское культурное явление. Прославленные западные литераторы – от Торо и Мелвилла до Золя, от Гёте и романтиков до Камю, Фолкнера и Бёлля – не обинуясь «учили жить», а публика им внимала. Просто в России это «сверхлитературное» начало было куда рельефнее и продуктивнее, потому что на Западе великие духовные движения реформации и контрреформации протекали в лоне самой Церкви, в России же – за ее оградой, на территории словесности по преимуществу. И самые черные времена нашего последнего семидесятилетия ничего не меняли: из-под идеологического гробового камня люди старались уловить звуки независимого, именно литературного слова, поскольку оно несло освобождающую весть не только гражданскому сознанию, но прежде всего духу, душе.