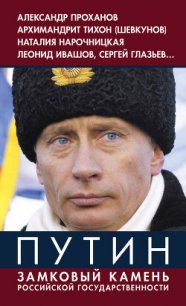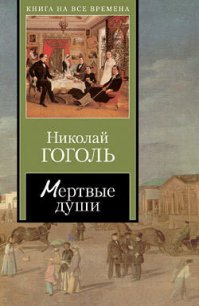Русская ментальность в языке и тексте - Колесов Владимир Викторович (книги хорошем качестве бесплатно без регистрации TXT) 📗
Итак, в слове может быть образное, понятийное и символическое содержание. Все ключевые слова культуры в любом развитом языке именно таковы. Мы не один раз встретимся с этим. Рука — в исходном образе просто ‘грабли’, в современном понятии ‘верхняя конечность человека от плечевого сустава до кончиков пальцев’ (уф!), а сверх того и культурный символ: либо символ власти (заимствован из греческого), либо символ труда, трудовой деятельности (а это народное представление о руке: своими руками).
Но что же с квадратом 4? Нет предмета — нет и предметного значения. Полная нелепость, тьма. И верно; но не забудем еще одну математическую истину: «минус на минус дает плюс». Есть еще иррациональные числа — полное чудо для здравого смысла. В четвертом квадрате размещается концепт — концептум, незримая сущность, поначалу явленная в неопределенном образе, затем сгущающаяся до четкого понятия и, наконец, создавшая символ национальной культуры. Концептум есть архетип культуры, тот самый первообраз-первосмысл, который постоянно возобновляет духовные запасы народной ментальности.
И как бы мы ни называли его, ни открещивались под разными предлогами (мистика, идеализм, фантазии), концептум есть, он существует столь же реально, как существуют физические элементарные частицы, которых никто не видел, как существуют гены, которые видят опосредованно, как нечто, что всегда является в образе иного, уже доступного чувству или рассудку — образу или понятию.
Понятие — явленный концепт, тем оно и ценно.
О типичности типа мы уже говорили; можно добавить словами Льва Карсавина, что типическое может быть ярким отличием («бросаемость в глаза») или наиболее распространенным качеством («распространением внутреннего качества») в модели «среднего человека» [Карсавин 1997: 31]. То, что бросается в глаза, заметно постороннему, но типичным является как раз внутреннее качество, постороннему недоступное. Когда мы читаем заметки иностранных наблюдателей о России эпохи Средневековья, обескураживает чисто внешнее выделение черт, которые были присущи и самим иноземцам, но проявлявшихся на Руси в очень ярком отличии. Степени качества не сходились, это верно, но качество было то же самое. За всю свою жизнь свирепый Иван Грозный уничтожил в пять раз меньше противников своего самовластия, чем его современник, французский король, за одну только Варфоломеевскую ночь 24 августа 1572 г., однако все иностранные путешественники сотни лет переписывали слова Олеария о том, что московский государь Иван Грозный назван Васильевичем за исключительную свою жестокость. Характерна эта избирательность чувства: русский человек не забыл жестокостей своего царя и постоянно о них рассказывал — жестокость французской короны осталась как бы незамеченной или казалась неважной. Привычное дело.
Так мы подходим к другой стороне типичного, к пониманию «внутреннего качества», постороннему незаметного по той причине, что чужое сознание он оценивает по фактам, а не по сущности его состояния. Но нам не нужны поверхностные характеристики, те общие места, которыми сопровождается всякое описание «русского типа». Подобной клюквы, как заметил Иван Солоневич, много развесила Европа по миру за последние столетия, — видимо, в утешение себе. «Пошлое преобладает в поверхностных рассуждениях иностранцев», — а эти слова Георгия Федотова скажем в утешение себе самим.
Существует ли русский человек «вообще» как тип, а не отдельное лицо? «Конкретный русский, — заметил историк, — не постесняется назвать своего соотечественника идиотом, ослом, бездарностью, не считая нужным сделать оговорку: „Хоть он и русский“ (любопытно, что при отзывах о чужом наблюдается как раз обратное: „Он хороший человек, хоть и жид“)» [Бицилли 1996: 624]. Это типично русское представление о сущности и явлении. Конкретный человек тут предстает как вид русского, при одновременном представлении идеи русского как всеобщего варианта (инварианта) русскости вообще, т. е. как род. Индивида, индивидуального при этом нет, он отсутствует. Называя другого идиотом, ослом или бездарью, человек соотносит один вид с другим, показывая прежде всего свое отношение к лицу и только уж потом намекая на сходство между видами. Никаких оговорок здесь не требуется. Виды — различны, подведение под общий род («хоть он и русский») невозможно. Чувство, движение души направляет логику высказывания, и эта логика безупречна. Чувство не обманывает русского человека и при втором высказывании. Здесь оговорка необходима, потому что речь идет о родовом признаке, который накладывается на конкретного человека тоже как на представителя вида. В традиции русского словоупотребления жид имеет не то же значение, что слова, казалось бы, синонимичные ему: еврей, иудей. Жид — это прежде всего неодобрительное именование скупца, злобного ростовщика, стяжателя. Любая нация в числе своих представителей имеет и жидов — и русская в том числе. Противопоставление «хорошего человека» и «жида» в таком контексте понятно.
Оказывается, в нашем рассуждении присутствует три вида «русскости» (да и любой национальности вообще: рассуждаем не о русском). Есть индивидуально человек, конкретное физическое лицо, которое, соединяя в себе более отвлеченные свойства русского человека, становится представителем вида «русский». Вид — не индивидуум, не лицо, а — личность, которая и в свою очередь в сумме свойств является не конкретно физическим, а социально значимым типом, за своей личиной скрывающим множество усредненных свойств, присущих отдельным русским людям. Личина и есть личность. В старорусском языке личина — перевод слова персона (per se ‘для себя’): маска или, как скажут сегодня, отражение социальной роли человека в обществе. Уже не вещь (личина бестелесна), она заменяет лицо в определенных случаях и потому предстает как идея русскости.
Но где-то в подсознании, глубоко в сердце возникает неизбывное представление о светлом идеале человечности в национальном ее облике. Это лик, который одновременно и традиционный облик идеала, и цель образца. Высшая абстракция русскости, о которой следует помнить, говоря о воплощении идеи личности в идеал лика.
Ну, так о чем же станем мы говорить, рассуждая о русской ментальности? Ясно, что не об отдельном человеке: это проблема био-графии. Но и не об идеале, который сложился в народном сознании, поскольку идеальные цели только подчеркивают пустоту реальности, отсутствие идеального, по крайней мере в степенях их проявления. Будем говорить о среднем моменте нашей тройственной формулы, о национальном типе как виде во всех проявлениях его духовности и характера. Чтобы выразиться доступнее, скажем иначе. Типичное в своих признаках можно видеть в понятии как единице мысли, но понятие есть явленность концепта, который лежит в основе понятия. Таким образом, явленность концепта есть понятие (conceptum в conceptus'е): типичное есть форма основного.
Но тут возникает сразу несколько вторичных вопросов, решить которые необходимо, чтобы впоследствии они не запутывали ясных суждений.
В частности, скачок мысли от индивидуального к видовому — это пропасть, потому что индивидуальный человек веществен, это «предмет», далее неделимый (ин-дивид), тогда как вид выражает предметное значение, выше мы назвали его денотатом. Прыжок же от вида к роду, к идеалу, не столь велик, потому что род и вид одинаково идеальны, они не предметны, а располагаются в сфере идеального. Когда говорят: «Русские — варвары, но вот Иван Иванович руки моет перед едой» (и не спрашивайте почему: известно ведь, что «наиболее культурной страной называется такая, в которой больше всего расходится мыла» — уместна ироническая реплика Михаила Пришвина), — когда такое говорят, то соединяют несоединимое, вид и индивид. Никакой логики тут нет, то же «ощущение чувств», уже не раз опороченное как «русское».