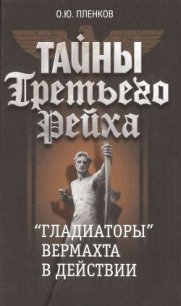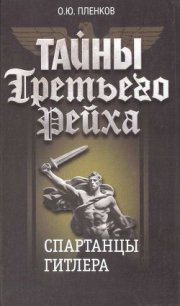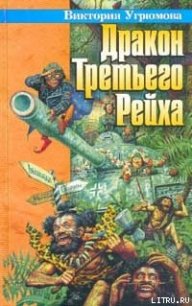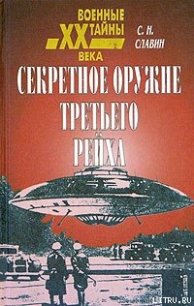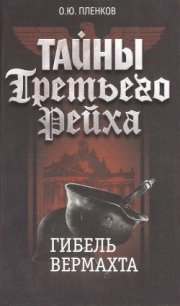Культура на службе вермахта - Пленков Олег Юрьевич (бесплатные серии книг .TXT) 📗
Духовным наставником активистов «Белой розы» был профессор философии Мюнхенского университета, убежденный антинацист Курт Хубер, который под впечатлением критики нацизма епископа города Мюнстера написал листовку, размножил ее и стал тайно распространять среди студентов. Эта листовка попала в руки студентов с такими же воззрениями; в результате возникла группа Сопротивления, которая занималась исключительно распространением листовок. В эту группу вошли Ганс Шолль, его сестра Софи (казнены 22 февраля 1943 г.), Вилли Граф, Кристоф Пробст, Александр Шморелль и упомянутый профессор Хубер. О чрезвычайно требовательном отношении к обществу и себе, а также о высоком чувстве моральной ответственности за будущее Германии свидетельствует переписка брата и сестры Шолль {621}.
Известие о неудовольствии в студенческой среде дошло до баварского гауляйтера Гейслера, который решил лично отвратить студентов от инакомыслия. В своем выступлении Гейслер пожурил студентов за упадок морали, недостаточную преданность фюреру и предложил им использовать студенток для воспроизводства будущих граждан Третьего Рейха, а не мутить воду. При этом Гейслер намекнул, что сам бы не прочь им посодействовать. Студентов речь Гейслера довела до бешенства, и они набросились на Гейслера и его охрану. В Мюнхене начались уличные беспорядки, на стенах домов стали появляться надписи «долой Гитлера!» Гестапо поначалу никак не могло найти инициаторов и участников группы, но вскоре агент гестапо, работавший уборщиком в университете, выдал Ганса и Софи Шолль и их друга, которые с балкона университета разбрасывали листовки. Они предстали перед публичным судом 18 февраля 1943 г.; председательствовал в суде Роланд Фрейслер, студенты были приговорены к смертной казни и обезглавлены. Скоро были арестованы и казнены остальные члены группы «Белая роза», в том числе и профессор Хубер, который в своем заключительном слове на судебном процессе также подчеркивал прежде всего моральные побуждения активистов своей организации: «Возвращение к ясным моральным основам, к правовому государству, к взаимному доверию людей по отношению друг к другу — это не только не преступно, но и необходимо для возрождения законной нормы жизни. Для всякой внешней законности и правопорядка есть последняя граница, за которой уже исчезает право и мораль. Именно тогда мнимая законность становится прикрытием трусости, боязни открыто выступить против очевидных нарушений права» {622}. Слухи о мюнхенских событиях циркулировали по Германии — говорили о «большой демонстрации мюнхенских студентов», о массовых расстрелах {623}. Сестра Ганса и Софи Шолль Элизабет Хартнагель в 2003 г. рассказывала, что после ареста Ганса и Софи жители Ульма, где она жила, перестали ее замечать. От нее отвернулись даже друзья, которые говорили: «Не появляйся у нас, в этом нет ничего личного, просто так будет лучше для всех». Элизабет с большим трудом удалось найти адвоката, ей сразу было отказано в аренде жилья: «предателям народа жилье не сдается» {624}.
Еще одной группой молодежного Сопротивления были «Пираты эдельвейса» (Edelweisspiraten). 13 членов этой группы были арестованы в Мюнхене и без всякого судебного разбирательства публично казнены в ноябре 1944 г. Помимо прочего, «Пираты эдельвейса» снабжали советских военнопленных продуктами питания.
Выводы
В итоге главы о Сопротивлении следует указать, что более 1 млн. немцев между 1933 и 1945 гг. прошли через концлагеря; 40 тыс. было казнено по судебным приговорам, десятки тысяч — без приговоров. Разумеется, не все репрессированные были убежденными борцами, многие репрессированные немцы пострадали не за убеждения, а по различным формальным поводам, но ни от одного человека нельзя требовать или ожидать мученичества, это нереально, негуманно и невозможно. Достаточно представить себе: началась война — и каждый человек должен был сразу определить собственную позицию к этой войне и сообразно ей действовать, то есть путем саботажа или дезертирства препятствовать ей. Такой мгновенной реакции нельзя ожидать от нации в целом, тем более что тоталитарная действительность по человеческим измерениям была самым постыдным временем, в котором торжествовали низменные инстинкты, грубость, ложь, оппортунизм, трусость. Шансы на то, что какая-либо фронда, не говоря уже о прямом сопротивлении режиму, останется безнаказанной, были ничтожны; Сопротивление в этих условиях имеет очень высокую пробу. Немецкое Сопротивление снимало коллективную вину с немцев — графиня Марион Денхоф, которая лично знала многих борцов немецкого Сопротивления, резонно указывала: «Факт существования движения Сопротивления доказывает, что Сопротивление в принципе было возможно, другой вопрос — могло оно иметь успех или нет. Факт существования этой оппозиции разбивает тезис о коллективной вине всех немцев за нацизм. Вместе с тем эта вина тем большим грузом ложится на тех, кто не принимал участия в Сопротивлении» {625}.
Рассматривая специфику немецкого Сопротивления, нельзя упускать из виду, что оно было социально изолировано — лишь немногие оппозиционеры (например, Юлиус Лебер, депутат рейхстага, или Карл Герделер, бургомистр Лейпцига и имперский комиссар по ценам) имели политический опыт и опыт общения с массами. Большая часть людей Сопротивления относилась к дворянству и крупной буржуазии, то есть это были люди, не имевшие каких-либо связей и корней в простом народе. Их бунт был отчаянным и смелым поступком, но это был всего лишь последний бой представителей сословий, которые практически сошли со сцены, поэтому им нечего было противопоставить нацистской преступной энергии, динамике и хитрости.
Огромное значение немецкого Сопротивления заключается еще и в том, что от него ведет свою политическую традицию современная немецкая политическая культура, в этом смысле немецкое Сопротивление — это, собственно, предыстория современной Германии. Со времен антинацистского Сопротивления в Германии в общественном мнении страны глубоко укоренилась мысль о необходимости констатации права на Сопротивление. Поэтому в 1968 г. в дополнение к «Основному закону» статьей 20(4) было заявлено право немцев на сопротивление разрушению демократического порядка в Германии, «если не могут быть приняты другие меры» {626}.
Эпилог
Предпочитаю любить людей, а не все человечество…
Предпочитаю не утверждать, будто разум всему виною…
Предпочитаю таких моралистов, которые мне ничего не сулят…
Предпочитаю страны завоеванные странам — завоевателям…
Предпочитаю ад хаоса аду порядка…
«К выводу приходят тогда, когда устают думать».
Американский историк Джон Лукач писал, что если в художественном фильме немецкий солдат говорит, что верит в Гитлера, то нашему современнику это автоматически дает повод его осуждать, он — плохой. Напротив, продолжает Лукач, если американский солдат в том же кино говорит, что он верит в демократию и ненавидит нацистов: мы думаем он — хороший. «Это, — утверждает Лукач, — слишком просто. Тот немецкий солдат, может быть, хорошо относился к пленным. Американский солдат, может быть, нет. Имеет значение именно то, что люди делают, как они поступают. Идеи немца и американца не являются непоследовательными, но я буду снова и снова настаивать: то, что люди делают со своими идеями, важнее того, что идеи делают с ними» {627}. Эта модель может быть применена к истории немецкой культуры в период Третьего Рейха, когда «идеи» нацизма (безусловно отвратительные и обструкционистские) в жизни реализовывались по-разному, и разные люди воспринимали эти «идеи» по-разному, а также и действовали они на разных людей по-разному. Это справедливо даже по отношению к советской системе унификации и контроля, которая — так же как и нацистская — никогда не была в полной мере «тотальной», то есть исключающей разницу в отдельных человеческих поступках и реакцию на власть и ее действия. В значительной мере термин «тоталитаризм» — это скорее метафора, указывающая на самое существенное теоретическое отличие этой системы от либерального плюрализма, который тоже довольно трудно идентифицировать и прогнозировать его последствия в разных ситуациях и политических культурах. Для того чтобы иметь ясные представления о конкретных проявлениях нацизма, фашизма или большевизма, нужно изучать их по существу, а не подгонять под какие-то схемы, пусть даже мотивированные морально. В этом отношении любопытнейшую и очень плодотворную мысль высказал французский философ Мишель Фуко, который утверждал, что для того, чтобы общественная практика стала гуманнее, надо полностью изгнать гуманизм из теории. На самом деле, гуманизм как официальная теория давно уже служит инструментом сохранения статус-кво, и освобождение от него в теории позволяет пристальнее присматриваться к стратегии и тактике властей и использовать их для проведения в жизнь конкретных гуманистических проектов {628}. Так и для историка важно, во что конкретно выливаются те или иные действия, а моральная их оценка дело совсем не сложное: она, как правило, лежит на поверхности, и никого принуждать к ней категорически нельзя — это может вызвать обратную реакцию. Моральная оценка должна быть следствием, а не посылкой изучения истории, поскольку на практике оказывается, что отличия одной политической системы от другой не всегда ясно различимы. Это видно на материале истории искусства при нацистах, а также по морально-этическому измерению жизни немецкого общества в Третьем Рейхе. Разница определялась очень многими факторами — начиная от особенностей отдельных личностей и кончая устойчивостью традиционных ценностей в разных слоях общества и пр. В этой связи всякая генерализация или типизация поведения отдельных людей или общественных групп неизбежно будет иметь очень условный характер. Поэтому однозначно и прямо характеризовать истинное положение дел в Третьем Рейхе в сфере культуры и общественных реакций на нацистскую идеологию невозможно. В этой сфере классифицировать, обобщать, сводить к единообразию — значит ошибочно принимать внешнее за сущность, дробить живое единство искусственным анализом. Процесс поиска истины в такой ситуации исключительно сложен — это точно выразил австрийский публицист Элиас Канетти: «Истина — это море травинок, колыхающихся под ветром; она хочет, чтобы ее ощущали как движение, втягивали как дыхание. Скала она лишь тому, кто не чувствует ее, не дышит ею; такой может в кровь биться о нее головой» {629}.