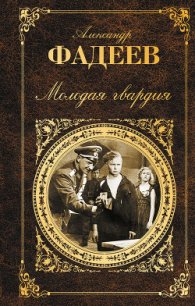Кавказская война - Фадеев Ростислав Андреевич (книги бесплатно txt) 📗
Довольно примеров. Пусть укажут нам единый случай, единый общественный вопрос, в котором наша так именуемая либеральная сторона сохранила бы практическую самостоятельность суждения и не оказалась бы крепостью лелеемых ею модных (в кругу ее публики) слов. Она сохраняет целиком старинную мифологию метафизических существ, либеральных отвлеченностей, избираемых, разумеется, по собственному вкусу, и поклоняется ей по-язычески. Немудрено, что пред ее идеалом даже славянофилы оказываются тугими консерваторами; идеал ее — не какая-либо действительность, а либерально-аллегорический Олимп. Какая быль может поравняться со сказочной аллегорией?
Эта мифология имела на первых порах сильное влияние на русское общество, потрясенное в своих обычных верованиях разочарованием, последовавшим временно за крымской войной, но тут было главнейше влияние новизны, разлетевшееся само собой. Привычная робость перед громкими словами удержалась У нас в некоторой степени и до сих пор; она должна удержаться, покуда сложившаяся общественная жизнь не распределит их по достоинству, не даст сомнительным из них достаточный, видный для всех отпор. Но громадное большинство, не решающееся покуда, по своей бессвязности, восстать явно против навязываемых ему призраков, уже не верит им, — в этом может убедиться всякий, выезжающий за петербургскую заставу. Понятно, что при таком настроении большинства наша метафизическая либеральная печать утратила всякое значение; но понятно также, что в головах этого общественного большинства, из которых еще прежде бессодержательный либерализм, ныне испаряющийся сам собой, вытеснил большую часть отеческих заветов, остались только пустота и равнодушие ко всему.
Легко выразить в двух словах сущность мнений нынешней левой стороны, откидывая, конечно, ее крайнюю оконечность: если б их можно было выпаривать в котле, общие места улетучились бы и на дне осталось бы: некоторое количество добрых намерений, немало личных дарований, очень много спекуляции и смутная, ныне почти уже бессознательная закваска, сохранившаяся от разлива нигилизма пятидесятых годов.
Эту закваску, сохранившуюся и до сих пор в довольно чистом виде, хотя в микроскопических размерах, стоит разобрать особо. Как общественная группа, она ничтожна, ограничиваясь преимущественно несовершеннолетними; как признак общественного состояния, она имеет свое значение. Надобно принять в соображение и ее, чтобы окончательно оглядеться в тумане современных русских мнений.
II
ЕВРОПЕЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ И РУССКИЕ ЕЕ ПОЧИТАТЕЛИ
Как известно, в настоящее время наша крайняя левая сторона очень похожа своей постановкой на учебное заведение: взрослые числятся в ней только в должностях учителей и наставников, слушатели — все дети.
Лет двенадцать тому назад было иначе: тогда русские уши разных возрастов увлекались новыми словами. Но проповедь нигилизма, вне литературных кружков, никогда не шла далее ушей, и соблазн ее не простирался далее «новых слов». Первый опыт доказал это с несомненной убедительностью. Ныне живущее поколение хорошо помнит время польского восстания, когда при встрече на почтовых станциях (железных дорог тогда еще было мало) приписные русские нигилисты обменивались словами: «а ведь Герцен, которого мы считали таким патриотом, оказался изменником! кто бы этого мог ожидать?»
Со времени этого великого опыта русские нигилисты и не-нигилисты распределились по возрасту. Говорят, что у нас существует один крайне либеральный журнал, постоянно твердящий о молодом поколении, из которого сотрудники, достигающие 21 года — возраста гражданского совершеннолетия, — исключаются поголовно по подозрению в консерватизме. Этот журнал, очевидно, умнее, чем думают. Стало быть, в политическом отношении можно смотреть равнодушно на остатки русского нигилизма, так как ничто, даже новый всемирный потоп, не может изменить того закона, по которому двадцатилетние люди находятся под властью сорокалетних. Но в других отношениях это не совсем так. Нам, поколению отцов, не все равно, что происходит с нашими детьми до двадцати одного года, когда, по мнению умного нигилистского журнала, у них впервые является склонность к консерватизму: этого срока весьма достаточно, чтобы сгубить себя. Кроме того, им приходится наверстывать от двадцати до тридцати лет время, которое они тратят на бредни от десяти до двадцати; таким образом Россия никогда не догонит своих соседей, оставаясь навечно десятью годами моложе их. Наконец, эта чересчур распространенная юношеская шалость оказывается дурным признаком в нравственном состоянии отцов: как им складывать общественный быт своих зрелых сограждан, когда они не могут сладить с собственными детьми? Вследствие этих соображений, несмотря на ничтожность остатков русского нигилизма как общественной группы, стоит рассмотреть это явление пристальнее.
Полного выражения мнений нашей крайней левой надобно искать в русской заграничной печати. В начале шестидесятых годов она и дома высказывалась достаточно откровенно и писала между строк то же самое, что наши беглые печатали въявь в Лондоне и Женеве; но то время прошло. С окончанием поветрия и моды на этот род речи, наш свойский, домашний нигилизм не мог бы договариваться до конца, если б ему была даже предоставлена полная свобода слова. В глаза людям нельзя говорить басен, легко сходящих за глаза. Довольно мудрено уверить в приятности фаланстерии (коммунистской казармы) соседа, с которым не можешь ужиться на одной квартире; убедить хозяина, от которого кабак сманивает рабочих, нанимаемых за высокую плату, в усердии этих же самых рабочих, трудящихся бесплатно, из соревнования, для пользы общины; доказать невменяемость преступления крестьянам, гибнущим от конокрадства; проповедовать федеративно-социальную республику уездным земствам, которые до сих пор не могут справиться с местными мостами. Но за границей, в кружке десятка русских, затерянных в многолюдном Лондоне, или в обществе русских цюрихских барышень высокие мысли зреют беспрепятственно. Оттого русская заграничная печать отличается драгоценной откровенностью; в ней, как в волшебном зеркале, отражается не только лицевая сторона, но даже изнанка наших передовых мнений.
Собрав все, что писали наши эмигранты, вышло бы несколько сот томов; но — замечательное дело — во всей этой библиотеке нет единого слова проповеди, сочиненного от себя, за исключением, конечно, личных воспоминаний и перебранки: до последней мысли все заимствовано из иностранных источников, переведено или кое-как передано своими словами. За нашими независимыми мыслителями оказывается только способность переписывать. Единственная довольно крупная личность, являвшаяся между ними, был Герцен, обладавший дарованием исключительно литературным, лучше даже сказать — фельетонным, без тени какой-либо обобщенной мысли или политического чутья; в библиотеке было бы смешно поставить сочинения этого талантливого писателя в иной отдел, кроме беллетристики. Созданная им заграничная русская печать процвела на короткое время, а затем, как известно, забрела в польский лагерь и пала по недостатку читателей, наделав много шума, но не высказав ни одной мысли, которая пригодилась бы для какого-нибудь дела.
Кажется, урок был достаточный. Российские крайние могли бы понять, что им несравненно выгоднее писать под цензурой, ничего не договаривая до конца: такой прием — самый удобный для людей, которым нечего сказать, кроме общих мест, вычитанных в чужих книжках. Но самолюбие всегда растет вместе с несостоятельностью. И вот, в 1873 году снова появилось в Цюрихе русское красное издание под заглавием «Вперед». Издание это может служить не только отличным мерилом внутреннего содержания осадков бывшего нигилизма последних русских революционеров (правильнее сказать — русских читателей иностранных революционных книг, так как своего у них нет ни йоты), но вместе с тем и признаком умственного состояния многих наших людей, по природе не совсем бездарных. Будет не лишним познакомить общество — в виде отдельной вставки — с этим новым цветком забытого было нигилизма, выросшим хотя не на русской почве, но несомненно из русских семян.