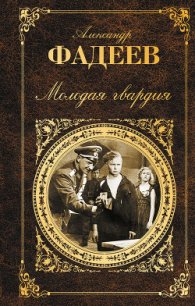Кавказская война - Фадеев Ростислав Андреевич (книги бесплатно txt) 📗
Но существует ли в современном русском обществе какое-либо мнение с таким большинством, или, говоря иначе, существует ли такая группа единомысленных людей, которая в предполагаемом нами сне могла бы обратить свою волю в обязательный закон, без чего новой планете пришлось бы быть свидетельницей сумятицы и даже полного разложения, еще невиданных на нашем свете? Вопрос этот сводится на следующий: оказываются ли в обновленном русском обществе хотя бы только завязки самостоятельной и сознательной народной жизни, без которой мы можем быть расой, можем быть государством, но не можем стать живой, развивающейся нацией, идущей вперед по своему пути? Ходить же постоянно по чужим путям — значит лишиться в историческом смысле права на самостоятельное бытие, обратиться в обезличенную толпу, в материал, и подвергнуться опасности, раньше или позже, очутиться под рукой тех, у кого есть свой путь. Несомненно, что всякий из больших европейских народов, поставленный в положение, о котором мы говорим, не находился бы долго в затруднении: он воссоздался бы по своему историческому складу. У англичан не возобновилось бы, вероятно, одно пэрство, но управление осталось бы на новой планете в нынешних же привычных руках. Между французами не обошлось бы без резни, так как у них лишь резней устанавливается законность всякого нового правительства; но одна из готовых партий очень скоро захватила бы власть и снова опеленала бы народ административной паутиной; французам опять пришлось бы платонически увлекаться пристрастием к той или другой форме верховной власти, оставаясь под той же самой ежечасной и мелочной опекой чиновников, назначаемых всяким их правительством почти из тех же людей. Нечего и говорить об американцах: почва новой планеты никак не показалась бы им в политическом отношении мудренее почвы Нового Света. То же сравнение, приблизительно, можно распространить и на немцев, и на итальянцев. Но что делали бы в таком положении мы, русские? Одна сторона вопроса, вероятно, решилась бы скоро. Судя по понятиям всей массы нашего народа, признающего законной властью одну только царскую власть, без всякого ее определения, мы должны были бы снова прибегнуть к самодержавию, хотя подобное восстановление не обошлось бы без большой смуты: наш народ верит не столько в отвлеченный принцип, как в освященный род. Но вопрос этим не кончается. Самодержавие все же есть только принцип, как народовластие в республике, принцип, способный облекаться в самые разнообразные формы в приложении к делу, в управлении государством и областями, как достаточно доказано нашей собственной историей. Но какой монарх может взяться за устройство управления, не зная, в чем состоят условия и потребности данного народа? А кто же, какое мнение, какая группа единомышленников — могли бы указать у нас, при воссоздании общественного порядка, наши потребности, — указать таким образом, чтобы голос их покрыл тысячи других голосов, настоящую кошачью музыку, которая поднялась бы по этому поводу? Можно сказать с достаточною вероятностью лишь одно: большинство русских голосов не захотело бы возобновления бюрократического управления посредством столоначальников, вне необходимых размеров. Но чем заменить столоначальников? Кто сказал бы это на новой планете с таким авторитетом, чтобы в нем можно было узнать голос страны, по крайней мере голос нравственной силы, первенствующий в стране, что одно и то же? Можно думать, однако же, что, даже не переезжая на другую планету, мы находимся и на этой земле в положении довольно близком к вышеописанному, за одним исключением — за исключением прочности верховной власти, без которой все у нас рассыпалось бы прахом.
Конечно, существование твердой власти есть спасительный факт, обеспечивающий наше настоящее и близкое будущее в государственном смысле; но само по себе оно не предрешает форм общественного устройства, соответствующих нашему складу, росту и потребностям. Правительство состоит не из волшебников, которые могли бы знать то, чего не знает сам народ; у нас же не существует покуда никакого связного мнения (возможного только при связности людей), в котором выражалось бы хотя приблизительно направление большинства русского общества.
Двадцать лет тому назад нельзя было предложить подобного вопроса, не только по стеснению слова, но потому, что он не имел бы смысла. Во-первых, некоторое сосредоточение мнения и органы для его выражения тогда существовали, хотя в очень одностороннем и бездейственном виде. Во-вторых, — и это главное, — подобный вопрос не мог тогда возбудиться, так как в нем не настояло надобности. Пока продолжался воспитательный период нашей истории, открытый Петром Великим и законченный нынешним царствованием, верховная власть относилась у нас к народу, вместе взятому, не только как власть, но как наставник: и сама она, и русское общество, после страдательного противодействия первых годов, признали особую просветительную миссию сверху, не постоянную, а временную, отрицавшую по своей сущности самостоятельность суждения и гражданской деятельности у просвещаемых. Известное дело, что от ученика требуют только прилежания и послушания, а не мнения. Прожитый нами полуторавековой воспитательный период был запечатлен исключительным, чисто искусственным и подражательным характером, резко отличающим его и от предшествующего, и надо думать, от наступившего уже времени, от минувших и от грядущих веков самодельного народного развития. Настоящее царствование [189] упразднило этот воспитательный период, вызвав общество к гражданской деятельности, и открыло новую эпоху русской истории, можно надеяться — эпоху зрелости, в отношении к которой все предшествующие были только приуготовительными. Мы выдержали выпускной экзамен, так, впрочем, как его обыкновенно выдерживают на Руси, благодаря снисхождению экзаменаторов, более чем собственным знаниям; тем не менее мы теперь уже должны стоять на своих ногах и жить своим умом. Вопрос об определенности и твердости общественного мнения и о связности сословных пластов и групп, способных взращать и выражать его, становится из праздного, каким он был еще недавно, неотложным. Покуда же мы, русские, встающие со школьной скамьи воспитательного века своей истории, связываемся между собой не какой-либо общностью мнения, свойственной всякой сложившейся нации, а лишь некоторым единством народного чувства; это чувство есть не что иное, как отголосок, постепенно выдыхающийся от времени, однородности и сосредоточения национальных взглядов, когда-то у нас существовавших. Потому мы покуда только государство, а не общество. Очевидно, крепость государственного сложения обеспечивает нам переходный срок, в течение которого мы можем срастись в общество; но тем не менее срок этот, едва ли растяжимый произвольно, должен окончательно решить, что нам предстоит впереди: быть ли живым народом, или политическим сбором бессвязных единиц. На дне вопроса, поставленного таким образом, лежит ключ нашего будущего.
В современной России видно во всем отсутствие сложившихся мнений и общественных органов, способных установить взгляды большинства и выражать их с достаточным весом. Одно связано с другим неразрывно: разброд мнений всегда доказывает, между прочим, разброд людей. Ниже мы постараемся исследовать причины такого необычайного явления — тысячелетнего исторического общества с неустоявшимися понятиями; покуда же можно удовольствоваться признанием самого факта: путаница наших понятий бросается в глаза. Мы все знаем, что русский народ чрезвычайно даровит, что умных людей у нас едва ли не больше, чем где-нибудь. Достаточно проехать несколько сот верст по нашим и по заграничным железным дорогам, разговаривая со случайными соседями, чтобы неотразимо прийти к двум заключениям: первое — что в суждении большинства русских людей гораздо более меткости и независимости; второе — что в самых обыденных предметах, к которым европеец подходит совершенно развязно, как к своему дому, зная все входы и выходы, русскому приходится как будто открывать Америку; вы видите, что наш земляк подступает к предмету как бы в первый раз, и притом в одиночку, не чувствуя за собой никакой опоры сложившегося мнения. Даже в противоположных взглядах двух европейцев на какой-либо предмет заметно, что суждения их исходят из одного общего основания и расходятся только в личных заключениях; но даже в согласии двух русских чувствуется, что мнения их вытекают из различных точек зрения и сходятся только в практическом выводе. Под нашими взглядами нет общей подкладки, выработанной совокупной жизнью. Оттого средний русский человек из фрачных слоев или крайне нерешителен в своих заключениях, не доверяет себе, или же дерзок до безобразия, до бессмыслия. И нерешительность, и дерзость происходят из одного источника — из того, что он должен до всего добираться сам, что он не знает, что и кто за него, что и кто против него; он рассуждает в одиночку. И наша робость, и наша смелость не сознательны. Оттого русские люди, даже вполне зрелые и нравственно сильные, которые принесли бы честь всякой стране, мало полезны обществу. Как иметь влияние на общество, когда оно не представляет ни сборных мнений, ни общих интересов, ни сложившихся групп, на которые можно было бы действовать; влиять же на людей поодиночке значило бы черпать море ложкой. Недостаток гражданской доблести, вялость в исполнении своих обязанностей и равнодушие к общему делу, в которых мы постоянно себя упрекаем, происходят, в сущности, от бессвязности между людьми. Немудрено быть гражданином там, где человек видит перед собою возможность осуществить всякое хорошее намерение; но нужна непомерная, чрезвычайно редкая энергия, чтобы тратить силы при малой надежде на успех. Это чувство одиночества, действующее очень долго, повлияло, конечно, и на склад русского человека, сделало его относительно равнодушным к общественному делу, лишило веры в себя, вытравило из нас отчасти то, что называется индивидуализмом. Невозможно вылечиться от равнодушия, пока продолжается обстановка, его создавшая.
189
Т. е. царствование Александра II.