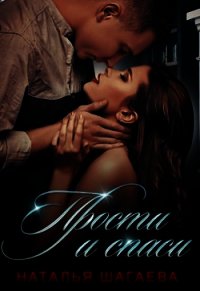Пастырь Добрый - Фомин Сергей Владимирович (библиотека книг бесплатно без регистрации .txt) 📗
«Аминь, аминь, глаголю вам: аще кто слово Мое соблюдет, смерти не имать видети во веки» (Ин.8:51). С этим обетованием Спасителя обычно не считаются, обходя его или растворяя в учении о безсмертии души, хотя для последнего вера в Спасителя вовсе не является предусловием.
Если сказано, соблюдающий слово Христово «смерти не имать видети во веки», это значит, во–первых, что вообще говоря смерть можно узреть и, во–вторых, что с неверующими так именно и случается. Общий смысл этого понятия об «узрении смерти», конечно, ясен: это какое–то своеобразное переживание, по которому отходящий отсюда сознает свое отхождение, и переживание этого отчетливо и резко отграничено ото всех обычных переживаний. Но почему сказано именно «не узрит», а не вообще не почувствует, не сознает? В этих словах, в самом термине «узреть», примененном к смерти, есть конкретность большая, нежели сколько ее требовалось бы при общем указании на особое самочувствие умирающего: «почувствует свое умирание» звучит очень субъективно сравнительно с предметным образом смерти как чего–то зримого нами вне нас самих. Иначе говоря, смерть представляется здесь не как состояние нашего организма, а как некое существо, которым причиняется такое состояние. В Апокалипсисе это понимание смерти раскрывается с полной определенностью: последнее событие истории человеческого греха — «ввержение смерти в серное озеро» [309]. С другой стороны — не может не заставить задуматься постоянный образ всех религий, как языческих, так иудейства, магометанства и христианства, — образ ангела смерти или гения смерти, вообще духовного существа, перерезающего нить жизни и принимающего новорожденную в иной мир душу. Замечательно то, что этому образу непременно сопутствует представление о режущем орудии, том или ином; им перерезывается пуповина, удерживающая душу при теле. Коса, нож, меч, серп, ножницы и т. д. — различны эти орудия смерти, но назначение их всегда и везде — одно.
Мифологический образ никогда не бывает и не может быть нарочитым олицетворением отвлеченных понятий или внутренних переживаний; как бы ни толковали психологический процесс, его пред нами ставящий, несомненно — он стоит пред нами, он пластичен, он есть видение, а не мысль только; хотя и связанный с нами внутренно, он, однако, предметен. Так и ангел смерти не может быть толкуем в качестве словесного пересказа мысли о кончине и ощущении кончины; он в самом деле видится умирающими, и чаще всего в ужасе и смятении. Сравнительно редко умирающие говорят о своем видении смерти, и не потому, что не могут сказать, а по чувству тайны. Об этой гостье иного мира нельзя сообщать живущим. Обычно, когда в величайшем ужасе умирающий уже не может скрыть своих чувств и его взгляд, обращенный в определенную сторону, его отрывочное восклицание и непроизвольный жест самозащиты выдали присутствующим, что с ним происходит нечто особенное, в ответ на расспросы их умирающий отмалчивается или старается усыпить бдительность окружающих какими–нибудь неопределенными словами. То, что испытывает он, на языке мистериальном называлось άρρητογ или άπόρρητογ, ineffabile. Это несказанное — «о нем же не леть человеку глаголати» [310], не то что невозможно сказать, но не должно говорить, может быть потому, что всякое слово об этом окажется, по Тютчеву, «ложью» и будет хотя и то, но совсем не то. Тут охватывает при всех таких видениях властное ощущение запретности: если скажешь, то произойдет нечто непостижимо страшное, и, когда при разговоре мысль приведет к бывшему видению и оно почти выскочит на язык, вдруг встает какая–то преграда, и, весь в ужасе, человек с разбегу останавливается пред нею, как перед пропастью открывшейся. Это–то чувство, но несравненно более могущественное, и запечатывает уста умирающего.
Но кончина не всегда механически предопределена состоянием организма; нередко она определяется как исход напряжений брани различных сил о животе и смерти. Бывает так, что кончина уже наступающая, и даже в каком–то смысле наступившая перекладывается на другой срок или откладывается на другое время. Тогда ангел смерти приближается, уже готовый сделать свое дело, и ждет лишь последнего исхода борьбы. Бывает и так, что он долго присутствует при умирающем, потому что самая борьба, уже доведенная до высшей своей ответственности, затягивается на сравнительно долгий срок. Но на тот или иной срок силы жизни одерживают верх, и «вестнику смерти» приходится отойти или отъехать, не исполнив своего дела. Поправившись или оправившись, больной, чаще всего, забывает о своем видении: этот мрак забвения есть инстинктивная уловка его организма заставить его умолчать о бывшем видении. Но в некоторых случаях память о видении сохраняется, в особенности пока организм еще не совсем оправился, и тогда–то доводится услышать на исповеди, или просто по дружбе и доверию, признание о таинственном вестнике смерти. Чаще всего его называют просто смертью или смертушкой. Ее описывают различно, но суть дела остается всегда одною: смерть похожа на фигуру из «Пляски Смерти» и т. п. Это — скелет, в большей или меньшей степени обросший тощею кожею, завернутый в саван, иногда закованный в латы, то пеший, то верхом как Дюреровский рыцарь смерти, и всегда вооруженный, хотя по–разному. Это — «всадник, которому имя смерть» (Отк.6:8). Мне представляется совершенно безспорной прямая зависимость безчисленных образов искусства, древнего и нового, всех этих плясок смерти, триумфов смерти, триумфов войны и т. д. и т. д. от таких ведений, т. е. не только по рассказам о них, но и по прямому, хотя, может быть, и смутному, зрению художником самой Смерти. Вот, ради конкретности, пример такого видения:
…Иеромонах Свято–Троицкой Сергиевой Лавры о. Диодор, как очевидец, без слез не мог рассказать мне следующий факт.
«Как Вам известно, — начал о. Диодор свой рассказ, — во время Японской войны я, за послушание, был послан из Лавры в Маньчжурию, и там, по назначению военного протопресвитера, находился в качестве священника в одном из лазаретов.
По своим обязанностям часто проходя через лазарет, я однажды, а затем и в другой раз заметил, что один из тяжелобольных солдатиков провожает меня каким–то особенным вопросительным взором.
Побуждаемый желанием откликнуться на безмолвный голос больного, я подхожу к нему и спрашиваю его: — Не нуждаешься ли ты, милый, в какой–либо услуге с моей стороны?
Солдатик заминается, не решаясь в чем–то высказаться мне, а между тем из всего усматриваю, что он чего–то желает от меня.
— Нет, еще обожду.
Далее, о. Диодор уговаривал солдатика приобщиться, но тот не соглашался. «На другой день после сего дня ко мне прибегает сестра милосердия и говорит:
— Скорее, батюшка, к тому больному, с которым вчера вы долго разговаривали. Он просит Вас поисповедать и причастить его.
Беру Св. Дары и поспешно отправляюсь к нему. Больной, завидя меня идущим к нему, проговорил:
— Скорей, скорей иди, причасти меня!
Удалив сестру милосердия, я приступил к отправлению исповеди, на которой солдатик открыл все содеянные им грехи, в числе которых были и грехи тяжкие, великие. Затем я преподал ему Святых Тайн. Как только он принял их, сидя на кровати, так сейчас же проговорил:
— Спасибо, спасибо тебе, батюшка! Мне теперь стало очень хорошо!.. А вот и Смертушка пришла, — сказал он, глядя в сторону.
— Где она? — Я не вижу.
— Вон стоит, — говорит солдатик, указывая туда же.
— Ну, прощай! — сказал он затем, и с этими словами откидывается на подушку и отдает душу свою Богу.
Это так тронуло меня, грешного, что я заплакал чуть не навзрыд…»
Так закончил о. Диодор свой рассказ, испуская из глаз слезы.