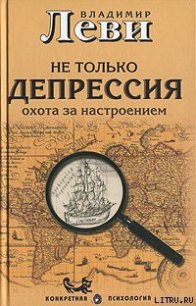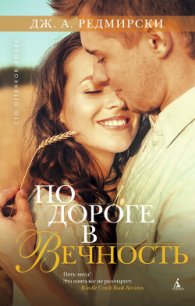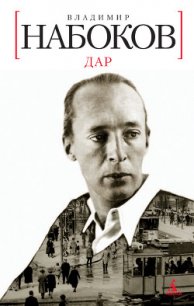Демон полуденный. Анатомия депрессии - Соломон Эндрю (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Безумие ли это — избегать моделей поведения, делающих тебя безумным? Или безумие — это принимать лекарства, чтобы иметь возможность поддерживать жизнь, делающую тебя безумным? Я мог бы перевести свою жизнь в более низкий разряд — делать меньше, путешествовать меньше, знать меньше людей, не писать книг о депрессии — и, может быть, если бы я поменял все это, мне бы не понадобились лекарства. Я мог бы вести жизнь в тех рамках, в которых я смогу ее выдерживать. Это не то, что выбрал для себя я, но это, несомненно, один из разумных вариантов выбора. Жить с депрессией — все равно что пытаться сохранять равновесие, танцуя с козой, — в высшей степени разумно было бы предпочесть партнера с лучшим чувством равновесия. И все же жизнь, которую я веду, сложная и полная приключений, приносит такое огромное удовлетворение, что мне ненавистна сама мысль от нее отказаться. Она ненавистна мне больше, чем что-либо другое. Я скорее утрою число принимаемых пилюль, чем сокращу вдвое круг своих друзей. Унабомбер[31], чьи методы изложения своих луддистских настроений были катастрофичны, но прозрения в отношении опасностей технологической цивилизации вполне солидны, писал в своем манифесте: «Вообразите общество, ставящее людей в такие условия, при которых они глубоко несчастны, а потом дающее им препараты, чтобы устранить их несчастье. Научная фантастика? Это уже происходит…По своему действию антидепрессанты — средство изменять внутреннее состояние индивида таким образом, чтобы сделать его способным терпеть социальные условия, которые он иначе считал бы нестерпимыми».
Когда я впервые наблюдал клиническую депрессию, я ее не узнал; собственно говоря, я ее даже не заметил. Летом после первого курса колледжа мы с друзьями проводили время в загородном доме моих родителей. С нами была моя добрая подружка Мэгги Роббинс, очаровательная Мэгги, всегда искрившаяся энергией. Весной у нее случился маниакальный срыв, и она две недели пролежала в больнице. Теперь она вроде бы оправилась. Она больше не произносила безумных слов о поисках секретной информации в подвале библиотеки или о необходимости уехать в Оттаву на поезде зайцем, так что мы все сочли Мэгги душевно здоровой; ее долгие периоды молчания в то лето были многозначны и глубоки, будто она научилась взвешивать свои слова. Странно было, что девушка не привезла с собой купальника — и только спустя годы она рассказала мне, что без одежды чувствовала себя обнаженной, уязвимой, незащищенной и боялась этого чувства. Мы все, как положено второкурсникам, весело и легкомысленно плескались в бассейне. Мэгги же сидела на помосте для ныряния в ситцевом платье с длинными рукавами и, подтянув колени к подбородку, наблюдала наше веселье. Нас было семеро; пекло солнце, и только моя мать сказала (одному мне), что Мэгги выглядит на редкость замкнутой. Я и понятия не имел, как усиленно старалась Мэгги не дать малейшего намека на то, что она преодолевала в себе. Я не замечал темных кругов, которые были у нее под глазами, — это я потом научился их высматривать. Я помню, однако, как мы все поддразнивали ее, что она не купается и пропускает весь кайф, пока наконец она не встала на конце трамплина и не нырнула головой вниз как была, в платье. Я помню, как отяжелевшая одежда липла к ее телу, когда она проплыла до конца бассейна и потом брела, вся мокрая, к дому, и вода капала с нее на траву. Это было за несколько часов до того, как я нашел ее в доме — она спала. За ужином она ела мало, и я решил, что либо ей не нравится стейк, либо она бережет фигуру. Любопытно, что мне этот уик-энд запомнился счастливым временем, и я был потрясен, когда Мэгги описала свои тогдашние переживания как болезнь.
Пятнадцать лет спустя Мэгги постигла самая тяжелая депрессия, какую я только встречал. Ее врач, проявив поразительную некомпетентность, сказал незадолго до этого, что после пятнадцати вполне благополучных лет ей можно попробовать прекратить принимать литий, как будто произошло исцеление и ее тяжелое биполярное расстройство испарилось. Мэгги постепенно снизила дозировку. Она чувствовала себя прекрасно: похудела, руки перестали наконец дрожать, вернулась часть былой энергии, наполнявшей ее, когда она впервые сказала мне, что цель всей ее жизни — стать самой знаменитой актрисой в мире. Потом она начала чувствовать себя совсем уже невыразимо прекрасно. Мы все спрашивали, не боится ли она, что становится чуть-чуть маниакальной, но она уверила нас, что годами не чувствовала себя так хорошо. Этим должно было быть все сказано: чувствовать себя так хорошо вовсе не хорошо. Скорее, все было из рук вон плохо. Не прошло и трех месяцев, как Мэгги решила, что ее направляет Бог, а ее миссия — спасти мир. Один из друзей взял дело в свои руки и, не сумев дозвониться ее психиатру, нашел другого, и Мэгги снова посадили на лекарства. В последовавшие за тем месяцы она рухнула в депрессию. Следующей осенью она поступила в аспирантуру. «Аспирантура дала мне много; начать с того, что она дала мне время, место и ссуду еще на два депрессивных срыва», — шутила она. Во втором семестре у нее случился легкий гипоманиакальный эпизод, потом — легкий депрессивный; в конце четвертого она взлетела к полной мании, а затем рухнула в депрессию такую глубокую, которая казалась бездонной. Я помню ее свернувшейся в тугой комок на диване в квартире у нашего друга, вздрагивающей, как будто ей загоняли под ногти бамбуковые щепки. Мы не знали, что делать. Она словно потеряла дар речи; когда мы наконец выжали из нее несколько слов, они были едва слышны. По счастью, ее родители за все эти годы досконально изучили биполярное расстройство, и в тот вечер мы помогли ей переехать к ним. Это было последнее, что нам на два месяца предстояло от нее услышать: она лежала в углу, не шевелясь по нескольку дней подряд. Я и сам уже знал депрессию и хотел ей помочь, но она не брала трубку и не принимала посетителей, а ее родители были достаточно сведущи, чтобы давать ей волю в ее безмолвии. С мертвыми, и то у меня бывало более близкое общение. «Никогда больше я этого не допущу, — говорила она мне с тех пор. — Я знаю, что пойду на все, чтобы этого избежать. Я абсолютно отказываюсь это переносить».
Сейчас Мэгги в порядке — на депакоте, литии и веллбутрине, и, хотя она держит ксанакс наготове, он не нужен ей уже долгое время. Она больше не принимает клонопин и паксил, как вначале. Но будет принимать лекарства постоянно. «Мне пришлось воспитать в себе смирение, чтобы сказать: «Ну и ну, наверно, многие, решившие сесть на лекарства, — такие же люди, как я, не собиравшиеся никогда в жизни, ни за что, ни при каких обстоятельствах зависеть от лекарств. А потом они согласились, и это им помогло». Она пишет и рисует, а днем работает редактором в каком-то журнале. Более ответственной работы она не хочет. От работы ей нужна некая уверенность в завтрашнем дне, какая-нибудь медицинская страховка и место, где ей не надо постоянно блистать. Когда она печалится — или злится, — она пишет стихи о неком альтер-эго, которое она себе выдумала и назвала Сюзи. У нее есть стихи о маниакальном состоянии и о депрессивном:
Кто-то стоит в ванной, уставясь Сюзи в глаза.
Кто-то, чьего вида и голоса Сюзи не узнает.
Кто-то, живущий в зеркале.
Кто-то с круглым лицом, которое плачет и плачет.
Череп у Сюзи туго набит, там что-то колотится.
Зубы у Сюзи шатаются.
Руки у Сюзи дрожат и едва движутся, покрывая мыльной пеной стекло.
Летом Сюзи изучала узлы. Сюзи не знает, как завязать петлю.
Сюзи чувствует, как поднимают вуаль.
Сюзи слышит, как вуаль разрывают.
И тогда истина лежит перед нею, пришпиленная, голая и метущаяся, разбуженная, потрепанная.