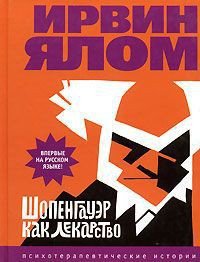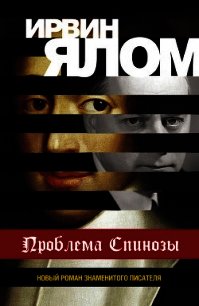Мама и смысл жизни - Ялом Ирвин (читать книги онлайн полные версии .txt) 📗
– Я помню, как ты рассказывала нам с Джин про «Севен Ап» Саймона. Конечно, тебе было очень обидно.
– Обидно? Не то слово! Иногда она пила этот «Севен Ап», закусывая его моим kichel, и не переставая говорила только про «Севен Ап». А ты ведь знаешь, сколько труда уходит на kichel.
– Мама, я так рад, что мы разговариваем. Первый раз в жизни. Может быть, я всегда этого хотел, и поэтому ты не уходишь у меня из головы и из снов. Может быть, теперь все будет по-другому.
– По-другому – это как?
– Ну… я смогу быть в большей степени сам собой… чтобы жить ради тех целей и дел, которые я сам себе выберу.
– Ты хочешь от меня отделаться?
– Нет… ну, не в этом смысле, в хорошем смысле. Я и для тебя хочу того же самого. Я хочу, чтобы ты могла отдохнуть.
– Отдохнуть? Ты когда-нибудь видел, чтобы я отдыхала? Твой папочка каждый день ложился поспать после обеда. Ты хоть раз видел, чтобы я спала среди дня?
– Я хочу сказать, что у тебя должна быть своя цель в жизни – а не это, – я тыкаю пальцем в ее хозяйственную сумку. – Не мои книги! И у меня должна быть моя собственная цель.
– Но я же только что объяснила, – отвечает она, перекладывая сумку в другую руку, подальше от меня. – Это не только твои книги. Это и мои книги!
Я все еще крепко держусь за ее руку, но теперь она почему-то оказывается холодной, и я разжимаю пальцы.
– Что значит «у меня должна быть своя цель в жизни»? – продолжает она. – Эти книги и есть моя цель. Я работала ради тебя – и ради них. Всю жизнь я работала на эти книги, на мои книги.
Она лезет в сумку и вытаскивает еще две книги. Я морщусь, потому что боюсь, что она сейчас поднимет их над головой и начнет демонстрировать небольшой толпе зевак, которая уже собралась вокруг нас.
– Мама, ты не понимаешь. Нам надо разделиться – мы сковываем друг друга. Это нужно, чтобы стать личностью. Об этом я и писал во всех этих книгах. И я хочу того же самого для моих собственных детей, для всех детей. Быть без оков.
– Вос мейнен – еаков?
– Нет, нет, «без оков» – это значит, чтобы их ничто не сковывало, чтобы они были свободны. Как же мне получше объяснить? Скажем, так: каждый человек, по природе своей, одинок. Это тяжело, но это так на самом деле, и нам нужно научиться с этим жить. Поэтому я хочу, чтобы у меня были свои собственные мысли и свои собственные сны. А у тебя – свои. Мама, уйди из моих снов!
На ее лице застывает строгое выражение, и она делает шаг назад. Я торопливо продолжаю:
– Не потому, что я тебя не люблю, а потому, что я хочу, чтобы нам обоим было хорошо – и тебе, и мне. У тебя должны быть свои собственные сны в этой жизни. Уж это-то ты точно можешь понять.
– Игвин, ты по-прежнему думаешь, что ты все понимаешь, а я ничего не понимаю. Но я тоже смотрю в жизнь. И в смерть. Я понимаю про смерть больше твоего. Поверь мне. И про одиночество понимаю больше твоего.
– Но, мама, тебе же не приходится жить в одиночестве. Ты все время со мной. Ты не оставляешь меня. Ты бродишь в моих мыслях. В моих снах.
– Нет, сынок.
«Сынок»! Меня так не называли лет пятьдесят. Я уж и забыл, что она и папа иногда меня так звали.
– Сынок, все совсем не так, как ты думаешь, – продолжает она. – Некоторых вещей ты не понимаешь, кое-что у тебя повернуто с ног на голову. Ты знаешь тот сон, где я стою в толпе и смотрю, как ты в вагончике машешь мне, зовешь, спрашиваешь, удалась ли твоя жизнь?
– Мама, ну конечно же, я помню свой сон. С него же все и началось.
– Твой сон? Вот это я и хотела тебе сказать. Ты ошибаешься, Игвин – ты думаешь, что я была в твоем сне. Это был не твой сон, сынок. Это был мой сон. Матерям тоже снятся сны.
Cтранствия с Полой
Когда я был студентом-медиком, меня учили высокому искусству – смотреть, слушать, прикасаться. Я смотрел на алые гортани, выпирающие барабанные перепонки, змейки кровавых ручейков в сетчатке глаза. Слушал шипение сердечных шумов, бульканье труб кишечника, какофонию респираторных хрипов. Ощущал скользкие края печени и селезенки, упругость кист яичника, мраморную твердость рака простаты.
В университете меня учили изучать пациентов. А вот учиться у пациентов я стал гораздо позже, на другой стадии своего образования. Возможно, это началось с моего профессора, Джона Уайтхорна, который часто говорил: «Слушайте своих пациентов; учитесь у них. Чтобы поумнеть, нужно вечно учиться». И он имел в виду больше, чем банальную истину, что хороший слушатель узнает о пациенте гораздо больше. Он в буквальном смысле предписывал нам учиться у пациентов.
Джон Уайтхорн – чопорный, неуклюжий, вежливый, с блестящей лысиной, окаймленной коротко стриженным полумесяцем седых волос, – тридцать лет руководил факультетом психиатрии университета Джонса Хопкинса и делал это безупречно. Он носил очки в золотой оправе, и у него не было ни одной лишней черты – ни одной морщинки: ни на лице, ни на коричневом костюме, в котором он ходил каждый день (мы подозревали, что у него в гардеробе два или три одинаковых костюма). Лишней мимики и жестов у него тоже не было. Когда он читал лекцию, двигались только его губы, все остальное – руки, щеки, брови – оставалось удивительно неподвижным.
На третьем году моей ординатуры в психиатрической клинике мы – я и пять моих однокурсников – каждый четверг во второй половине дня делали обход вместе с профессором Уайтхорном. А до этого мы обедали у него в кабинете, отделанном дубовыми панелями. Еда была простая и всегда одна и та же – сэндвичи с тунцом, мясной нарезкой и холодными крабовыми котлетками, за ними следовал фруктовый салат и пекановый пирог, – но подавалась она всегда с южной элегантностью: льняная скатерть, сверкающие серебряные подносы, английский тонкостенный фарфор. За обедом мы долго и неспешно беседовали. Хотя нам всем нужно было делать обходы, хотя пациенты требовали неотложного внимания, поторопить доктора Уайтхорна нам не удавалось, и в конце концов даже я, самый гиперактивный изо всей группы, научился говорить времени «подожди».
В эти два часа мы могли задавать профессору любые вопросы. Помню, я спрашивал его о таких вещах, как происхождение паранойи, ответственность врача за самоубийство пациента, несоответствие между возможной излечимостью пациента в результате терапии и спущенной сверху предопределенностью. Профессор отвечал подробно, но не скрывал, что предпочитает другие темы: меткость персидских лучников, достоинства и недостатки греческого и испанского мраморов, грубые промахи, допущенные в битве при Геттисберге, усовершенствованная самим профессором периодическая таблица элементов (по первому образованию он был химик).
После обеда д-р Уайтхорн принимал в том же кабинете четырех или пятерых своих пациентов, а мы молча наблюдали. Невозможно было заранее предсказать, насколько затянется каждая беседа. Иные длились пятнадцать минут, другие продолжались – два-три часа. Ясней всего я помню летние месяцы, прохладный затемненный кабинет, оранжевые и зеленые полосы на парусине тента, закрывающего свирепое балтиморское солнце, опоры тента, обвитые магнолией, мохнатые цветки которой свисали прямо за окном. Из углового окна можно было разглядеть край теннисного корта для сотрудников клиники. У меня ныло под ложечкой, так мне хотелось поиграть. Я ерзал, представляя себе подачи и удары с лета, а тени на корте все росли и росли. И лишь когда сумрак проглатывал последние полосы корта, я оставлял надежду поиграть и полностью переключался на беседу д-ра Уайтхорна с пациентами.
Он не торопился. У него было много времени. Больше всего на свете его интересовали профессия и любимые занятия пациента. В один из четвергов воодушевленный вопросами профессора южноамериканский плантатор целый час рассказывал о кофейных деревьях, а через неделю это мог быть профессор истории, рассказывающий о гибели Великой Армады. Можно было подумать, что для доктора Уайтхорна нет важней задачи, чем понять взаимосвязь между высотой над уровнем моря и качеством кофейных бобов, или узнать, какая политическая подоплека шестнадцатого века стояла за Великой Армадой. Он так незаметно перемещался в личную сферу рассказчика, что я всегда изумлялся, когда пациент-параноик, подозревающий все и вся, вдруг начинал откровенно говорить о себе и своем психотическом мире.