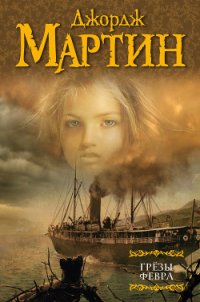Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон (книги бесплатно без регистрации txt, fb2) 📗
Действительно, даже у видавших виды химиков XVIII в. в тот период, когда химия имела склонность наделять различные субстанции индивидуальностью, она отнюдь не устраняла привилегий тех видов материи, которые обозначают стихии. Так, например, Жоффруа[231], объясняя, что термальные воды пахнут серой и битумом, начинает вовсе не со ссылок на субстанцию серы и битума, а наоборот, вспоминает, что они «материя и продукт огня»[232]. Следовательно, термальная вода предстает воображению прежде всего как непосредственная смесь воды и огня.
Разумеется, у писателей непосредственный характер этого сочетания становится еще более определяющим; внезапные метафоры, поразительная дерзость, мечущая молнии красота подтверждают выразительность архетипического образа. К примеру, в одном из своих «Философских этюдов» Бальзак заявляет – без малейших разъяснений, без всякой подготовки, так, словно речь идет о настолько самоочевидной истине, что ее можно высказать без комментариев: «Вода есть некое сгоревшее тело». Это последняя фраза Гамбара. Ее можно поставить в ряд так называемых совершенных фраз, которые, согласно Леон-Полю Фаргу[233], знаменуют собою кульминационные пункты значительных жизненных переживаний[234]. Для такого типа воображения одинокая, уединенная, чистая вода – не что иное, как догоревший пунш, своего рода вдова, замкнувшаяся в себе субстанция. Необходим какой-нибудь зажигательный образ, чтобы ее воскресить, чтобы пламя вновь пустилось в пляс над ее гладью, чтобы можно было сказать – вместе с Дельтхайлем: «Образ твой сжигает воду в таком узеньком канале» (Холера/Choléra, р. 42). Того же порядка и следующая фраза Новалиса, столь же энигматическая[235], сколь совершенная: «Вода есть некое намокшее пламя». Хэккетт в прекрасной диссертации, посвященной творчеству Рембо, обратил внимание на глубокую проникнутость гидрическим началом психики Артюра Рембо: «Кажется, что в „Поре в аду“ поэт просит огонь осушить эту воду, ставшую для него непрестанным наваждением… Тем не менее вода и все связанные с ней переживания успешно противостоят воздействию огня, и потому, заклиная огонь, Рембо одновременно призывает и воду. Две стихии оказываются неразрывно слитыми в следующем поразительном выражении: „Я требую. Я требую! Удара вилами; капли огня“»[236].
В этих огненных каплях, в этом намокшем пламени, в этой сожженной воде – как не увидеть двойственных зародышей воображения, умеющего сгущать два вида материи! До чего же второстепенным кажется воображение форм по сравнению с таким воображением материи!
Естественно, что образ столь специфический и конкретный, как жженка, горящая в ночь веселья, не смог бы так окрылить воображение, если бы не вмешалась греза более глубокая, более давняя, соприкасающаяся с самими основами материального воображения. Эта существеннейшая греза и есть брак противоположностей. Вода гасит огонь, женщина остужает пыл. В царстве материи невозможно найти чего-либо более противоположного, нежели вода и огонь. Между водой и огнем возникает, может быть, единственное поистине субстанциальное противоречие. Если логически они призывают друг друга, то сексуально они друг друга желают. О каких еще более великих прародителях, чем вода и огонь, можно грезить в этом мире!
В Ригведе[237] находим гимны, в которых Агни[238] предстает сыном вод: «Агни – родитель вод, любящий их, как брат – сестер своих… Он живет среди вод, подобно лебедю; просыпаясь на утренней заре, он призывает людей к существованию; он – творец, подобный соме[239]; рожденный в лоне вод, где он лежал, словно зверь, свернувшийся клубком, он разрастается, и свет его распространяется вдаль»[240].
«Кто из вас разглядит Агни, когда он прячется посреди вод; он был новорожденным и силою жертвоприношений он порождает собственных матерей: зародыш изобильных вод, он выходит из Океана».
«Появляясь среди вод[241], сверкающий Агни увеличивается, возвышаясь поверх колеблющегося пламени и распространяя славу свою; небо и земля пугаются, когда собирается родиться лучезарный Агни…»
«Сочетаясь на небосводе с водами, он принимает форму превосходную и блестящую; мудрый, опора всех вещей, он прогоняет источник дождей».
Образ солнца, этого огненного светила, выходящего из моря, здесь является объективно господствующим. Солнце – это Красный Лебедь. Но воображение непрестанно переходит от Космоса к микрокосму. Если Солнце – славный супруг Моря, нужно, чтобы при совершении жертвенного возлияния вода «отдавалась» огню, нужно, чтобы огонь «принимал» воду. Огонь порождает собственную мать – вот формула, которую алхимики, не зная Ригведы, применяли по любому удобному поводу. Это один из архетипов материальных грез.
Гёте довольно быстро проходит путь, ведущий от мечты о «гомункулусе» к космической грезе. Сначала что-то блестит в «чарующей жидкости», в «жизненном эликсире». Затем этот огонь, исходящий из воды, «полыхает вокруг раковины… Галатеи. Раз за разом он вспыхивает со все большей силой, грацией, нежностью, словно колыхаемый пульсациями любви». Наконец «он воспламеняется, мечет молнии, и вот уже струится», сирены[242] же хором подхватывают: «Что за чудесное пламя озаряет потоки, что, искрясь, разбиваются друг о друга? Оно лучится и бдит, и сияет! Тела полыхают на ночном ристалище, а кругом все струится огнем. Так царствует любовь, первопричина вещей! Слава морю! Слава струям его, окруженным священным огнем! Слава волне! Слава огню! Слава необычайному событию!»[243] Разве это не эпиталама[244], написанная по случаю бракосочетания двух стихий?
Философы из самых серьезных, сталкиваясь с таинственным союзом воды и огня, теряют рассудок. На приеме при дворе герцога Брауншвейгского Лейбниц посвятил латинские стихи химику Брандту[245], открывшему фосфор – этот странный огонь, непохожий на другие тем, что он сохраняется под водой. Для прославления такого чуда сгодились все мифы: похищение огня Прометеем, платье Медеи[246], светозарный лик Моисея[247], тот огонь, который зарыл Иеремия[248], весталки[249], надгробные светильники, битва между египетскими и персидскими жрецами. «Сей огонь, неведомый самой природе, что зажег некий новый Вулкан[250], что хранила Вода, препятствуя себе воссоединиться со своим отечеством, огнем, что, будучи погребенным под Водою, утаивал суть свою и вышел, светозарный и блестящий, из сей могилы, как образ души бессмертной…»
Народные легенды подтверждают то, о чем повествует масса ученых мифов. Нередко в этих легендах вода и огонь соединяются друг с другом. Даже когда образы не слишком ясны, в них нетрудно разглядеть сексуальные черты. Так, например, в легендах многочисленны источники, которые рождаются из пораженной ударом грома земли. Часто источник рождается в буквальном смысле слова «молниеносно». Иногда же, наоборот, гром и молния исходят из какого-нибудь бушующего озера. Дешарм задает вопрос: не является ли трезубец Посейдона «молнией с тремя остриями, принадлежащему богу неба, позднее же уступленной морскому владыке»?[251]
В одной из последующих глав мы подробнее рассмотрим женские свойства воображаемой воды. Пока же мы хотим продемонстрировать всего лишь матримониальный характер простейшей и общеизвестной химии огня и воды. Перед лицом мужественности огня женственность воды «неизменна». Сталкиваясь с огнем, вода не может поменять свои женские качества на мужские. Объединившись, эти две стихии создают все остальное. Бахофен[252] на многочисленных страницах своей книги показал, что воображение грезит о Творении как об интимном соединении огня и воды, обладающем их двояким могуществом. Бахофен доказывает, что этот союз не эфемерен. Он представляет собой основное условие непрерывного творения. Когда воображение грезит о долговечном союзе воды и огня, оно формирует смешанный материальный образ, наделенный необычайным могуществом. Это материальный образ горячей влажности. Для множества космогонических грез именно горячая влажность является фундаментальным принципом. Именно она одушевляет косную землю и порождает в ней все формы жизни. В частности, Бахофен показывает, что существует масса текстов, где Вакх назван «повелителем всяческой влажности», «als Herr aller Feuchtigkeit».