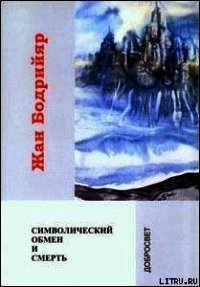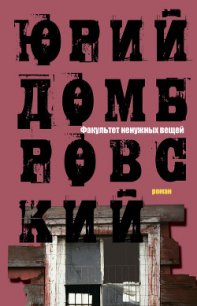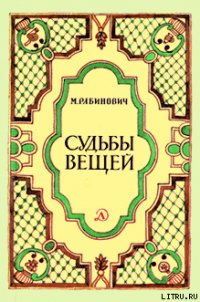Система вещей - Бодрийяр Жан (книги без регистрации полные версии .TXT) 📗
Побежденное пространство разделяет их еще более непроходимо, чем непобежденное [*].
ТЕХНИКА И СИСТЕМА БЕССОЗНАТЕЛЬНОГО
Следует, однако, задуматься о том, не обусловлена ли изначально эта относительная стагнация форм и технических средств (а в дальнейшем, в главе «Модели и серии», мы убедимся, что такой систематический дефицит чрезвычайно эффективен в плане социальной интеграции) еще и чем-то иным, кроме своекорыстного диктата определенного строя производства, кроме абсолютной инстанции социального отчуждения. Иначе говоря, представляет ли собой недоразвитость вещей «несчастную случайность социальной жизни», по выражению Л. Мамфорда? (Если бы люди были здесь «ни при чем» и в неполноценности нашей техники был бы повинен один лишь строй производства, то это была бы в самом деле несчастная случайность, некое необъяснимое противоречие, равно как и в обратной ситуации – в буржуазной легенде об «опережающем» развитии техники и «отставании» человеческой морали.) Фактически же никакой случайности здесь нет, и хотя очень большую роль действительно играет здесь систематическая эксплуатация, осуществляемая определенным строем производства (структурно связанным с определенным социальным строем) по отношению к целому обществу с помощью особой системы вещей, – в то же время система эта столь прочна и стабильна, что невозможно не заподозрить некую согласованность между коллективным строем производства и индивидуальным (пусть и бессознательным) строем потребностей; согласованность как тесные отношения негативного сообщничества, как взаимообусловленность между дисфункциональностью социоэкономической системы и глубинным воздействием системы бессознательного, о чем мы уже начали говорить в нашем анализе робота.
Коннотация и персонализация, мода и автоматика сходятся вместе во внеструктурных элементах, которые вовлекаются в систему производства, систематизируясь в своих иррациональных мотивациях; быть может, это оттого, что у человека просто нет ясной воли и возможности преодолеть свои собственные архаические структуры проекции; по крайней мере, в нем есть некое глубинное сопротивление, не дающее поступиться своими субъективно-проективными возможностями и их бесконечной повторяемостью ради какой-то конкретно-структурной эволюции (одновременно технической и социальной); проще говоря, имеется глубинное сопротивление, не дающее поставить рациональный порядок на место случайной целенаправленности наших потребностей. Очевидно, здесь в способе существования вещей, да и самого общества, происходит роковой поворот. Начиная с известного уровня технической эволюции, по мере удовлетворения первичных потребностей у нас, видимо, появляется новая, не менее, а то и более сильная потребность – важна не столько настоящая функциональность вещей, сколько их фантазматическая, аллегорическая, подсознательная «усвояемость». Почему автомобили не получают иных форм (например, с кабиной спереди и обтекаемыми контурами, позволяющими человеку эффективно переживать покрываемое им пространство, чтобы машина не подменяла для него дом или же самого субъекта, одержимого желанием стать метательным снарядом)? Возможно, потому, что нынешняя форма, создаваемая по абсолютно-недосягаемому образцу гоночных машин с их непомерно длинным капотом, дает возможность спроецировать на себя нечто более существенное и более важное, чем любые достижения в искусстве пространственного перемещения? Человек, видимо, нуждается в том, чтобы мир был наполнен еще и таким бессознательным дискурсом, а тем самым остановлен в своей эволюции. В этом направлении можно зайти очень далеко. Если внеструктурные элементы, в которых явно кристаллизуются самые стойкие желания человека, представляют собой не просто параллельные функции, усложняющие и дополняющие структуру, но именно нарушения, прорывы функциональной цепи, отклонения от объективно-структурного порядка; если целая цивилизация, как мы видим, отходит тем самым от реального преобразования своих структур и если все это не случайно – позволительно задаться вопросом, не склоняется ли человек, по ту сторону мифа о функциональной расточительности («персонализированном изобилии»), фактически скрывающего собою обсессивную озабоченность собственным образом, не склоняется ли он скорее к дисфункциональности, нежели ко все большей функциональности мира. Быть может, человек сам играет в эту игру дисфункциональных нарушений, в результате которой нас обступают вещи, застывшие в своем росте из-за своих же внешних наростов, не сбывшиеся сами и разочаровывающие нас тем более, чем более они близки нашей личности?
Здесь еще сильнее сказывается то, что чуть выше предстало нам как одно из определяющих качеств вещи, а именно ее способность к подменам; на уровне бессознательных конфликтов, еще с большим основанием, чем на уровне конфликтов социальных или осознанно психологических (о которых идет речь у Э. Дихтера и Л. Мамфорда), можно утверждать, что применение техники, а проще говоря потребление вещей, играет роль отвлекающего средства и воображаемого решения проблем. Техника может быть действенным опосредованием между людьми и миром; но это путь наибольшего сопротивления. Путь же наименьшего сопротивления заключается в создании системы вещей, выступающей как воображаемое разрешение любых противоречий; в ней происходит, так сказать, короткое замыкание технической системы и системы индивидуальных потребностей, разряжающее энергию и той и другой. Но тогда и не удивительно, что возникающая отсюда система вещей отмечена знаком распада: в этом структурном изъяне всего лишь отражаются те противоречия, формальным разрешением которых является данная система вещей. Будучи индивидуальным или коллективным алиби для тех или иных конфликтов, система вещей неизбежно несет на себе печать нежелания знать эти конфликты.
Но что же это за конфликты? И по отношению к чему составляют они алиби? Человек связал все свое будущее с одновременным осуществлением двух проектов – укрощением внешней природной и внутренней либидинозной энергии; и та и другая переживаются им как роковая угроза. Бессознательная экономика системы вещей представляет собой аппарат проецирования и укрощения (или контроля) либидо с помощью опосредованного воздействия. Достигается двойная выгода: господство над природой и производство жизненных благ. Беда лишь в том, что такая замечательная экономика содержит в себе двойную угрозу для строя человеческой жизни: l) сексуальность оказывается как бы заколдованной, запертой в строе техники, 2) с другой стороны, этот строй техники искажается в своем развитии под действием конфликтной энергии, которой он нагружен. Эти два члена вступают, таким образом, в неразрешимое противоречие, создают хронический дефект: система вещей, как она функционирует сегодня, содержит в себе в качестве всегда присутствующей возможности согласие на подобную регрессию, на соблазн положить конец сексуальности, раз навсегда амортизировать ее в вечно повторяющейся и стремящейся вперед технической эволюции.
На практике строй техники всегда сохраняет некоторую присущую ему динамику, препятствующую бесконечной повторяемости регрессивной системы, которая в совершенном своем состоянии была бы не чем иным, как смертью. Тем не менее ее предпосылки имеются в нашей системе вещей, которая постоянно испытывает соблазн инволюции, все время уживающийся с шансами на эволюционное движение вперед.
Такой соблазн инволюции – по сути, инволюции в смерть, избавляющей от страха сексуальности, – в строе техники порой приобретает в высшей степени яркие и резкие формы. Он оказывается при этом поистине трагическим соблазном сделать так, чтобы сам этот строй техники обратился против установившего его человека; чтобы вырвалась наружу фатальная сила этого строя, призванного как раз обуздывать ее; такой процесс однотипен описанному Фрейдом прорыву вытесненной энергии сквозь вытесняющую инстанцию, который приводит в негодность все защитные механизмы. В отличие от постепенной инволюции, сулящей нам безопасность, трагическое связано с головокружительно резким разрешением конфликта между сексуальностью и «я». Головокружение происходит от вторжения тех энергий, что были скованы в технических изделиях как символах господства над миром. Такая противоречивая установка – побеждать рок, одновременно провоцируя его, – отражается и в экономическом строе производства, где непрерывно производятся вещи, но лишь вещи искусственно лишенные прочности, частично нефункциональные, обреченные на скорую гибель, то есть система работает на производство вещей, но одновременно и на их разрушение.
В этом смысле понятно, что и кино и телевидение прошли или проходят мимо своих грандиозных возможностей «переменить жизнь». Как пишет Эдгар Морен («Кино и человек воображаемый», с. 15), «никого не удивляет, что кинематограф с самого своего рождения круто отошел от своих очевидных научно-технических задач, вступил в стихию зрелищ и превратился в „кино“... Бурный подъем „кино“ обернулся атрофией таких его потенций, которые могли бы показаться вполне естественными». И далее он показывает, каким образом медлительность технических нововведений в кинематографе (освоение звука, цвета, объемности) связана с его эксплуатацией как потребительского «кино».