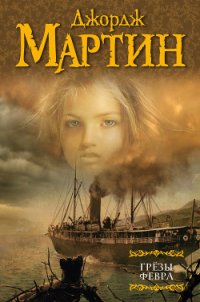Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон (книги бесплатно без регистрации txt, fb2) 📗
Как видно, и ручей тут присутствует «целиком», со своей бесконечной текучестью, со своей глубиной, со своим зеркалом – изменяющимся, изменяющим. Он присутствует вместе с копной ее волос, с любой копной волос. Осмыслив эти образы, можно установить, что если не определить в деталях подлинно природных образов, то психологии воображения не получится даже в виде наброска. Образы стремительно множатся и собираются воедино именно благодаря их природному зародышу, который разрастается силою материальных стихий. Образы, возникшие из стихий, уходят от них слишком далеко; они становятся неузнаваемыми; неузнаваемыми же они оказываются из-за своей воли к новизне. Однако любой комплекс – это явление психологическое, и притом столь симптоматичное, что одной-единственной черты достаточно для того, чтобы оно проявилось все целиком. Силы, благодаря которым общий образ всплывает из каждой своей черты, самой по себе достаточно для того, чтобы ясно показать неполноту психологии воображения, углубляющейся в изучение форм. Множество различных видов психологии воображения – из-за одностороннего внимания к проблеме формы – обречены оставаться не более чем психологиями понятий или схем. Они вряд ли могут считаться психологиями воображаемых понятий. В конечном счете литературное воображение, которое может развиваться лишь в сфере образа и должно выражать формы, больше годится для изучения нашей потребности создавать образы, нежели воображение живописное.
Кратко, но настоятельно подчеркнем этот динамический характер воображения, которому мы надеемся посвятить другое исследование[194]. Что же касается нашей теперешней темы, то нам кажется ясным, что на мысль о текучей воде наводит не форма шевелюры, а ее подвижность. Волна волос может принадлежать и ангелу небесному; поскольку же она волнуется[195], она, естественно, вызывает в воображении собственный акватический образ. Это и происходит с ангелами из «Серафиты». От их волос исходили волны света, а их движения вызывали волнистый трепет воздуха, похожий на потоки фосфоресцирующего моря[196]. Кроме всего прочего, чувствуется, насколько убогими казались бы такие образы, если бы метафоры воды не обладали высокой архетипичностью.
Так, живая прическа, воспетая поэтом, непременно вызывает ощущение движения, проплывающей волны, трепещущей волны. «Завивка-перманент», этот шлем из правильно уложенных локонов, обездвиживая естественное «волнение» волос, препятствует грезам, которые последнее могло бы пробудить.
У кромки вод все становится распущенными волосами: «Подвижная листва, привлеченная свежестью вод, свесила над ними свои косы»[197]. И Бальзак воспевает эту влажную атмосферу, в которой природа «к свадьбе надушила свою зеленоватую прическу».
Порою кажется, что чересчур философичная греза может устранить сам комплекс. Так, соломинка, несомая ручьем, – прежде всего вечный символ ничтожности нашей судьбы. Но – чуть меньше безмятежности в медитации, чуть больше печали в сердце грезовидца – и вот-вот снова появится весь призрак. Разве травы, зацепившиеся за камыши, сами по себе не волосы покойницы? Лелия, грустно задумавшись, созерцает их и бормочет: «Мы даже не выплывем, как эти увядшие травы, что плывут там, печальные и ниспадающие, словно волосы утопленницы»[198] Как видно, достаточно малейшего повода, чтобы сформировался образ Офелии. Она – один из фундаментальнейших образов грез о водах.
Напрасно Жюль Лафорг разыгрывает роль какого-то «нечувствительного» Гамлета: «Офелия, так никогда не бывает! Еще одна Офелия в моей микстуре!»
Ophélie, Ophélie
Ton beau corps sur l’étang
C’est des bâtons flottants
À ma vieille folie.
(Офелия, Офелия,
Твое прекрасное тело в пруду —
Это палки, плывущие
К моему стародавнему безумию.)
Как говорится, без риска нельзя съесть плод с «Древа Бессознательного»[199]. Гамлет для Лафорга остается странным персонажем, который совершал «круги по воде, по воде, иными словами – по небу». Синтетический образ воды, женщины и смерти не может рассыпаться[200].
Иронический оттенок, различимый в образах Жюля Лафорга, не является исключением. Ги де Пурталес в «Жизни Ференца Листа» (р. 162) замечает, что «образ Офелии, описанный в пятидесяти восьми тактах, „иронически“ воздействует на ум» (композитор сам вписал это слово как подзаголовок аллегро). То же самое, хотя и несколько более резко подчеркнутое, впечатление можно почерпнуть из сказки Сен-Поля-Ру[201] «Прачка моих первых горестей»:
Un jour mon âme se jeta dans la rivière des ophélies
Or ceci se passait en des temps très naïf.
…………………………………………………
Les maïs de son front brièvement flottent à la manière
d’un signet jusqu’à ce que se renferment le deux pages d’eau…
…………………………………………………
Sur mon coma bizarre glissent des ventres de cygnes…
O les niaises qui se noient dans la rivière de ophélies![202]
(Однажды моя душа бросилась в реку офелий,
Ведь это происходило в очень наивные времена.
…………………………………………………
Кукурузные крошки с ее лба плыли недолго,
словно книжная закладка, до тех пор,
пока не закрылись две водные страницы…
………………………………………………..
Над моей причудливой комой скользят лебединые животы…
О дурочки, что топятся в реке офелий.)
Образ Офелии успешно противостоит даже своей «похоронной» составляющей, которую большие поэты умели сглаживать. Несмотря на этот оттенок, одна из баллад Поля Фора[203] медлительно и мягко продолжает: «И бледный утопленник завтра поплывет вверх по реке, розовый в нежном утреннем плеске. Он поплывет, все отдаляясь от звуков серебряных колоколов. Какое благородное море»[204].
Вода облегчает смерть и добавляет несколько чистых звуков к самым глухим стенаниям.
Порою избыток нежности, искусно нанесенные тени предельно смягчают реализм смерти. Тем не менее слова о водах, одного-единственного, достаточно для того, чтобы всплыл глубокий образ Офелии. Так, принцесса Малена в уединении своей комнаты, непрестанно тревожась от предчувствия роковой судьбы, шепчет: «О! Как они кричат, камыши в моей комнате!»
VII
Как и все великие поэтические комплексы, комплекс Офелии может возвыситься до космического уровня. И тогда он будет символизировать некий союз Луны с реками и морями. Похоже, что в огромном плавучем отражении запечатлен образ всего мира, который гаснет и умирает. Именно в соответствии с этим архетипом Нарцисс у Жоашена Гаске туманным и грустным вечером собирает звезды с прояснившегося неба сквозь тень вод. Здесь мы видим слияние двух образных начал, вместе поднимающихся до космического уровня: космический Нарцисс объединяется с космической Офелией – решающее доказательство неодолимого порыва воображения[205]. «Со мною говорила луна. Грезя о нежности ее речей, я побледнел. „Дай мне твой букет (сноп, собранный в бледном небе)“, – сказала она мне, словно возлюбленная. И, будто Офелию я увидел ее, совсем обескровленную, в фиолетовом и просторном платье. Ее глаза, похожие на лихорадочно возбужденные и нежные цветы, мерцали. Я протянул ей свой пучок звезд. И тут от нее начал исходить какой-то сверхъестественный аромат. За нами зорко следило облако…» В этой сцене любви между небом и водой нет недостатка ни в чем, даже в соглядатае.
Луна, ночь, звезды, словно усеянный цветами луг, отражаются здесь в реке. Кажется, пока мы созерцаем усыпанный звездами речной мир, он умирает, несомый течением. Огоньки всплывают на поверхность вод как безутешные существа; сам свет предан, не узнан, забыт (р. 102). Во мраке «она[206] преломила свой блеск. Тяжелое платье упало. О! Эта печальная скелетоподобная Офелия! Она погрузилась в реку. Вместе со звездами, отправляющимися в долгий путь, чтобы исчезнуть, она поплыла вдаль по течению. Я плакал и тянул к ней руки. Она слегка приподнялась, откинув назад исхудавшую голову, ибо ее печальные волосы струились, и голосом, от которого мне стало еще больнее, прошептала: „Ты знаешь, кто я такая. Я твой разум, твой разум, ты знаешь, и я ухожу вдаль, я ухожу вдаль…“ Один миг, над водою, я еще видел стопы ее ног, чистые и нематериальные, как стопы Весны… Они исчезли; странный холод заструился в моей крови!..» Вот глубинная игра грезы, сочетающей «браком» луну и поток и продолжающей следить за дальнейшей их судьбой на всем протяжении реки. Такая греза овеществляет во всей мощи меланхолию ночи и реки. Она очеловечивает отражения и тени. Она узнает их драму и мучения. Эта греза сопричастна битве луны с облаками. Она придает им волю к борьбе. Она приписывает волю всем призракам, которые шевелятся и видоизменяются. Когда же наступает покой, когда небесные существа смиряются с очень простыми и незамысловатыми движениями реки, эта грандиозная греза принимает плавучую луну за измученное тело обманутой женщины; в оскорбленной луне она видит шекспировскую Офелию.