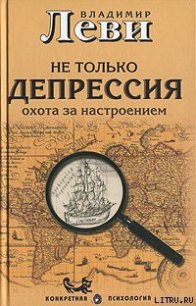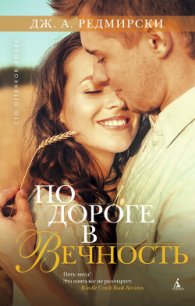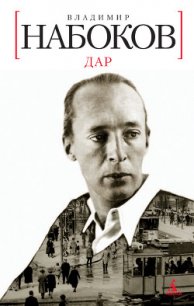Демон полуденный. Анатомия депрессии - Соломон Эндрю (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
— Умоляю, дай мне полежать спокойно, — сказал я и почувствовал, что снова плачу. Час я лежал в грязи, ощущая, как вода проникает к телу, а потом моя приятельница буквально проволокла меня к машине. Те самые нервы, которые недавно ободрали до сердцевины, теперь казались обернутыми в свинец. Я знал, что наступила катастрофа, но это знание было бессмысленно. Сильвия Плэт в книге The Bell Jar, талантливом воссоздании ее собственной депрессии, пишет: «Я не могла заставить себя реагировать, ощущая себя совершенно сплющенной и пустой, как должен чувствовать себя центр смерча, безвольно движущийся посреди окружающего его воя и грохота». Я чувствовал себя как те мушки, что бывают навеки замурованы в прозрачном янтаре.
Эти презентации оказались самым трудным делом в моей жизни — более тяжелым, чем любое испытание, с каким я только сталкивался и до того, и после. Издатель, организовавшая турне, провела более половины его времени со мной и с тех пор стала мне закадычным другом. Отец ездил со мной во многие из этих поездок; когда его не было, он звонил каждые два-три часа. Несколько близких друзей взяли надо мной шефство, и я никогда не оставался один. Должен сказать, что приятную компанию я не составлял никому, и их глубокая любовь и мое знание об этой любви сами по себе не исцеляли. Могу добавить еще, что без их глубокой любви и моего знания о ней я не нашел бы такой же любви в себе, чтобы продержаться до конца этого турне. Я нашел бы себе место в лесу, чтобы лечь на землю, и лежал бы там, пока не замерз бы до смерти.
Кошмар закончился в декабре. Было ли это потому, что сработали наконец лекарства или потому, что закончилось турне, — не знаю. В результате я отменил только одно чтение; между 1 ноября и 15 декабря я ухитрился посетить одиннадцать городов. У меня было несколько беспорядочных окон сквозь депрессию, как бывает, когда рассеивается туман. Поэтесса Джейн Кеньон, страдавшая тяжелой депрессией на протяжении большой части своей жизни, писала о выходе из нее так:
… С трепетом
и горечью помилованного за преступление,
которого он не совершал,
возвращаюсь к мужу и друзьям,
к гвоздикам с розовыми ободками; возвращаюсь
к книгам, письменному столу и креслу.
И вот 4 декабря я явился в дом своего друга на Верхнем Вест-Сайде, и неплохо провел там время. Несколько недель после этого я наслаждался не только приятно проводимым временем, но и самим фактом, что получаю удовольствие. Так я прожил Рождество и Новый год; я вел себя как некое подобие себя. Я потерял около семи килограммов и теперь начал набирать вес. Отец и друзья поздравляли меня с таким изумительным прогрессом, я их благодарил. Но в глубине моей души лежало знание, что прошли всего лишь симптомы. И кроме того, ненависть. К лекарствам, которые я должен был принимать каждый день. К своему срыву и потере рассудка. К этому немодному, но актуальному словосочетанию «нервный срыв» с подразумевающимся под ним сбоем всей телесной механики. Большое облегчение принесло то обстоятельство, что я выдержал турне, но я был измотан страхом перед всем тем, что еще должен был выдержать. Меня подавляло пребывание в этом мире: подавляли люди, их жизнь, которой я не могу жить, их работа, которую я не могу выполнять, — даже такая, которую я никогда не захотел бы и не имел бы необходимости делать. Я вернулся туда, где был в сентябре, только теперь знал, до чего мне может быть плохо. Я был полон решимости никогда больше не переживать подобных состояний.
Период выхода из депрессии может продолжаться долго. Это опасное время. В худшие моменты депрессии, когда я едва мог справиться с бараньей отбивной, я не мог причинить себе реального вреда, а в этот период чувствовал себя достаточно хорошо для самоубийства. Я уже мог делать более или менее все, на что был способен всегда, только все еще пребывал в состоянии ангедонии — равнодушия к радостям жизни, неспособности испытывать хоть какое-то удовольствие. Я подстегивал себя, чтобы держать форму, но теперь, когда мне хватало сил спрашивать, зачем я себя подталкиваю, не находил этому внятных объяснений. Особенно запомнился мне вечер, когда один знакомый уговорил меня пойти с ним в кино. Я пошел, чтобы доказать, что я весел, и несколько часов делал вид, что развлекаюсь тем, чем развлекались другие, хотя на самом деле эпизоды, которые они находили смешными, доставляли мне муки. Придя домой, я почувствовал возвращение паники и чудовищной тоски. Я пошел в ванную и несколько раз вызвал У себя рвоту, словно острое переживание одиночества было вирусом, сидящим в моем теле. Я думал, что так и умру один, что нет достаточной причины жить дальше, что нормальный и реальный мир, в котором я вырос и в котором, как я верил, живут все люди, больше никогда не откроется, чтобы впустить меня. С этими мыслями, врывающимися в мою голову, как выстрелы, я давился рвотой, и кислота поднималась у меня по пищеводу, а когда я пытался поймать воздух, то вдыхал собственную желчь. До этого я ел много, стараясь нагнать вес, и теперь мне казалось, что вся пища выходит обратно, будто мой желудок собирался вывернуться наизнанку и повиснуть на унитазе, как тряпка.
Я провалялся на полу ванной минут двадцать, потом выполз и лег на кровать. Моему рассудку было ясно, что я снова схожу с ума, и это знание страшно утомляло; но я знал, что позволить сумасшествию вырваться на волю — неправильно. Мне необходимо было хоть на минуту услышать человеческий голос, который пробил бы эту жуткую изоляцию. Я не хотел звонить отцу, зная, что он встревожится, и, кроме того, надеялся, что это ненадолго. Я хотел поговорить с кем-нибудь разумным, с кем-нибудь, кто мог бы меня утешить (ошибочный порыв: когда сходишь с ума, лучшие друзья — сумасшедшие, потому что они понимают, что с тобой происходит). Я поднял трубку и набрал номер своей старинной приятельницы. Мы уже говорили раньше о лекарствах, о панике, и она отзывалась умно и освобождающе.
Мне казалось, что она сможет раздуть искру моего «догрехопаденческого Я». Было около половины третьего ночи. Ответил ее муж; он передал трубку ей.
— Алло, — сказала она.
— Привет, — ответил я и замолчал.
— Что-то случилось? — спросила она. И меня мгновенно озарило: я не смогу объяснить, что случилось. Мне нечего было сказать. Позвонили по другой линии: это был один из тех, кто был с нами в кино — не отдал ли он мне случайно свой ключ вместе со сдачей из торгового автомата? Я пошарил в кармане — да, ключ у меня.
— Мне надо идти, — сказал я подруге и повесил трубку. В ту ночь я вылез на крышу, а когда взошло солнце, сообразил, что мои чувства абсурдно мелодраматичны и что бессмысленно, живя в Нью-Йорке, пытаться покончить с собой, бросившись с крыши шестиэтажного дома.
Я не хотел сидеть на крыше и в то же время понимал, что если не позволю себе облегчить душу мыслями о самоубийстве, то взорвусь изнутри и действительно покончу с собой. Я ощущал, как смертельные щупальца отчаяния обвивают мои руки и ноги. Скоро они захватят пальцы, столь необходимые мне, чтобы принимать нужные таблетки или чтобы нажать курок, и, когда я умру, они одни сохранят движение. Я знал, что голос разума («Ради всего святого, спустись вниз!») — был голосом разума, но я также знал, что разумом же откажу в праве на существование всему накопившемуся во мне яду, и уже чувствовал какой-то странный, доводящий до отчаяния экстаз при мысли о конце. О, был бы я «одноразовый», как вчерашняя газета! Я выбросил бы себя тихо и спокойно и был бы рад своему отсутствию, был бы рад лежать в могиле, если это единственное место, где еще можно чувствовать какую-то радость. Только знание того, что депрессия слезлива и смешна, помогло мне спуститься с крыши. Ну и еще мысль об отце, который так для меня старался. Я не мог заставить себя поверить в любовь настолько, чтобы вообразить, что мой уход будет замечен, но я знал, как он опечалится, если после стольких усилий меня спасти потерпит в этом неудачу. Кроме того, я думал о том, что должен буду когда-нибудь резать для него бараньи отбивные, ведь я обещал, а я всегда гордился тем, что не нарушаю обещаний, и отец тоже ни разу не нарушил данного мне слова. Именно это в конечном итоге и заставило меня спуститься. Около шести часов утра, промокший от пота и росы, с начинающейся простудой, которой скоро предстояло перейти в бешеную лихорадку, я вернулся домой. У меня не было сильного желания умереть, но жить я не хотел вовсе.