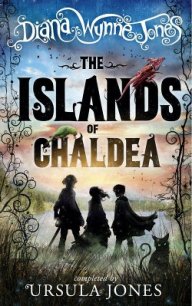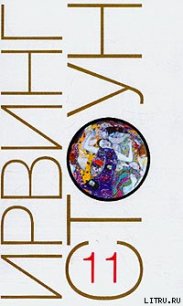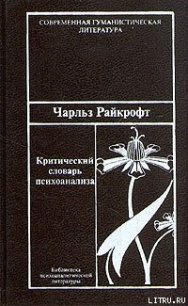Жизнь и творения Зигмунда Фрейда - Джонс Эрнест (читать бесплатно книги без сокращений TXT) 📗
В апреле Фрейду был нанесен еще один удар судьбы, который ему было тяжело вынести. Он очень зависел от ежедневной помощи, оказываемой ему его личным врачом Шуром, суждению которого он абсолютно доверял и к которому он был очень привязан. Однако перед самим Шуром стояла теперь тяжелая дилемма. Он попал в число того небольшого количества эмигрантов, которым разрешался въезд в США, и если бы он отказался от этого теперь, он подверг бы опасности свою судьбу и судьбу своих детей. Он решил принять данное предложение, съездить в Америку и получить все необходимые первоначальные документы. Он уехал 21 апреля, а возвратился 8 июля. Его место временно занимал д-р Самет, а затем д-р Хамер под руководством Экснера. Во время своего отсутствия он получал постоянные отчеты, в которых не говорилось о каком-либо серьезном ухудшении до последнего времени.
По своем возвращении он нашел огромное изменение в состоянии Фрейда. Фрейд в целом выглядел много хуже, сильно похудел и показывал некоторые признаки апатии. Раковая язва атаковала его щеку и основание глазной впадины. Даже его лучший друг, здоровый сон, который столь долгое время его поддерживал, теперь покидал Фрейда. Анне пришлось прикладывать ортоформ несколько раз за ночь.
Одним из самых последних посетителей Фрейда был один из его самых ранних друзей-аналитиков, Ганс Захс, который приехал в июле, чтобы, как он знал, в последний раз проститься с человеком, которого он называл своим «учителем и другом». Захс был особенно поражен двумя наблюдениями. Первое заключалось в том, что, несмотря на всю горечь своего болезненного положения, Фрейд не проявлял чего-либо, напоминающего жалобу или раздраженность, — ничего, кроме полного приятия своей судьбы и покорности ей. Второе заключалось в том, что даже в таком состоянии Фрейд мог интересоваться положением в Америке и показал себя полностью осведомленным об отдельных личностях и недавних событиях, имевших место в аналитических кругах Америки. Как того и хотелось бы Фрейду, их последнее прощание было дружеским, но проходило без каких-либо эмоций.
Фрейд, подобно всем хорошим врачам, испытывал отвращение к принятию наркотиков. Однажды он высказал это Стефану Цвейгу: «Я предпочитаю думать в мучении, чем не быть в состоянии думать ясно». Теперь, однако, он согласился принимать небольшие дозы аспирина — единственное лекарство, которое он принимал вплоть до самого конца. И он каким-то образом умудрялся проводить свою аналитическую работу вплоть до конца июля. 1 сентября его внучка Ева, дочь Оливера, нанесла ему последний визит; он особенно любил эту прелестную девочку, которой суждено было умереть во Франции пять лет спустя.
В августе все быстро шло к концу. Симптомом, который расстраивал его, стал неприятный запах, исходящий из раны, так что, когда к нему принесли его любимую чау, она отбежала от него в дальний конец комнаты. Это горестное переживание открыло больному человеку то критическое положение, которого он достиг. Он стал очень слабым и проводил время в глубокой нише своего кабинета, из которого мог видеть цветы в саду. Он читал газеты и следил за событиями в мире вплоть до самого конца. Он был уверен, что приближающаяся вторая мировая война будет означать конец Гитлера. В день, когда она разразилась, в городе была воздушная тревога — ложная, как оказалось впоследствии, — когда Фрейд лежал на своей кушетке в саду: его это ничуть не встревожило. Он с заметным интересом следил за теми шагами, которые предпринимались, чтобы спасти его манускрипты и коллекцию античных вещей. Но когда по радио объявили, что эта война будет последней, а Шур спросил его, верит ли он в это, он мог лишь сказать: «Так или иначе, это моя последняя война». Он едва мог что-либо есть. Последней книгой, которую он смог прочитать, была «Шагреневая кожа» Бальзака, относительно которой он сухо заметил: «Эта книга как раз для меня. В ней идет речь о голодной смерти». При этом он более имел в виду постепенное усыхание, при котором человек становится все тоньше и тоньше, столь ядовито описанное в этой книге.
Но при всей этой агонии он никогда не проявлял ни малейшего знака нетерпения или раздражительности. Философия покорности неизбежному и его принятия полностью восторжествовала.
Рак проделал свой путь через щеку наружу, и его септическое состояние усилилось. Его истощение было крайним, а муки почти неописуемыми. 19 сентября за мной послали, чтобы я мог с ним попрощаться, я назвал его по имени, так как он дремал. Он открыл глаза, узнал меня и махнул рукой, затем опустил ее в высшей степени выразительным жестом, который заключал в себе много смысла: приветствие, прощание, покорность. Он как можно более ясно выразил свою мысль: «Дальше тишина». Не было никакой нужды обмениваться словами. Кроме того, он вновь уснул. 21 сентября Фрейд сказал своему врачу: «Мой дорогой Шур, Вы помните нашу первую беседу. Вы обещали мне не оставить меня, когда придет мое время. Теперь все это лишь пытка и больше не имеет смысла». Шур сжал его руку и пообещал, что даст ему седативное средство; Фрейд поблагодарил его и после минутного колебания сказал: «Расскажите Анне о нашем разговоре». В его словах не было какой-либо взволнованности или жалости к себе, только реальность.
На следующее утро Шур дал Фрейду третью часть зернышка морфия. Для человека, истощенного в столь сильной степени, в. какой находился тогда Фрейд, и настолько непривычного к наркотикам, такая малая доза оказалась достаточной. Он с облегчением вздохнул и погрузился в мирный сон; его силы явно были на исходе. Он умер близко к полуночи следующего дня, 23 сентября 1939 года. Его трудная и продолжительная жизнь завершилась, и его страдания кончились. Фрейд умер, как и жил, — реалистом.
Тело Фрейда было кремировано в Голдерс-Грин утром 26 сентября в присутствии большого количества скорбящих людей, включая приехавших из-за рубежа Мари Бонапарт и Лампль, а его прах покоится там в одной из его любимых греческих урн. Его семья попросила меня произнести прощальную речь. Затем Стефан Цвейг произнес на немецком языке длинную речь, которая, несомненно, была красочнее моей, но которая не могла быть более глубоко прочувствованной.