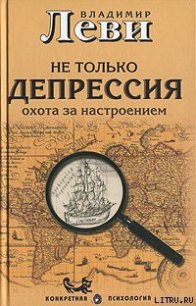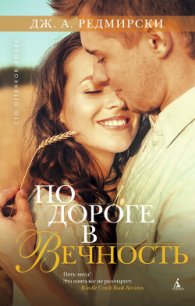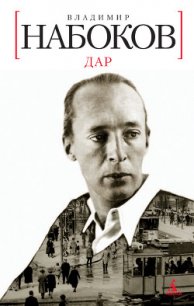Демон полуденный. Анатомия депрессии - Соломон Эндрю (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
Шло Погребенье, у меня в Мозгу,
И Люди в Трауре туда, сюда
Все шли и шли — пока не начал,
Казалось, пробиваться Смысл —
Когда же все уселись,
Запели Службу, и как Барабан —
Все била, била, била эта Служба,
Пока не начал Разум мой неметь —
И слышно было, как воздели Ящик,
И некий скрип, пронзивший Душу мне
Свинцовыми опять же Сапогами,
Тогда Пространство зазвонило, будто
Стал Космос Колоколом — чем же стала я? —
Всего лишь Ухом, Мною и Безмолвьем,
Каким-то странным Родом неземным,
Разбитым, одиноким в этом мире —
И тут Обшивку Разума пробило,
Я пала вниз, и с каждым погруженьем
Я попадала в Мир и знать переставала
[17]
.
Сравнительно мало писали о том, что депрессивные эпизоды абсурдно противоречивы; стремясь хранить свое достоинство и придать достоинство страданиям других, этот факт легко проглядеть. Однако для человека, пребывающего в депрессии, это совершенно очевидно. Минуты депрессии как века, там какое-то иное, искусственное понятие о времени. Помню, как я лежал окоченевший в постели и плакал, потому что боялся принять душ, и в то же время знал, что душ — это не страшно. Я прокручивал в уме каждый шаг: поворачиваешься и спускаешь ноги на пол; встаешь; проходишь отсюда до ванной; открываешь дверь; подходишь к краю ванны; пускаешь воду; становишься под душ; намыливаешься; смываешь пену; выходишь из ванны; вытираешься; идешь обратно к кровати. Все. Двенадцать шагов, но мне они представлялись остановками по пути на Голгофу. При этом умом я понимал, что душ — это легко, что я годами проделывал это каждый день, и проделывал так быстро и не замечая, что тут даже и говорить не о чем. Я знал, что эти двенадцать шагов вполне выполнимы. Я знал, что могу даже получить от кого-то помощь в некоторых из них. Обдумывая эту мысль, я переживал несколько секунд облегчения. Кто-нибудь может открыть мне дверь ванной. Я знал, что два-три шага пройти смогу, и вот, напрягая все силы своего организма, садился в кровати, поворачивался и опускал ноги на пол; но тут подступал такой страх и чувство беспомощности, что я опрокидывался навзничь и переворачивался на живот с ногами, все еще свисавшими с кровати. Иногда я опять принимался плакать, не только от того, что не мог совершить простых действий, но и потому, что моя неспособность действовать выглядела совершенным идиотизмом. По всему миру люди принимают душ. Почему, ну почему я не могу быть одним из них? А потом я начинал думать, что у всех этих людей есть семья, и работа, и счет в банке, и паспорт, и планы на ужин, и проблемы, настоящие проблемы, рак, и голод, и смерть детей, и одиночество, и неудачи; а у меня по сравнению с ними так мало проблем, ну разве что я не могу снова повернуться на спину… только через несколько часов, когда придет отец или приятель, чтобы забросить мне ноги обратно на кровать. Идея принять душ начинала выглядеть совершенно нереальной, удачная попытка подтянуть ноги приносила облегчение, и я снова оказывался в безопасности своей постели, чувствуя себя смешным и глупым. Впрочем, иногда нелепость происходящего становилась мне смешна, и думаю, что именно это помогло мне выстоять. На задворках сознания постоянно звучал голос, спокойный и ясный, говоривший: не сентиментальничай; пожалуйста, не надо мелодрамы… Разденься, надень пижаму, ложись спать; утром проснешься — поднимайся, одевайся и делай все, что тебе полагается делать. Я постоянно слышал этот голос, похожий на мамин. Я раздумывал о потерянном и ощущал тоску и ужасное чувство одиночества. «Было ли кому-нибудь дело — я не говорю о супермодном культурном центре, а вообще кому-нибудь, хотя бы моему дантисту, до того, что я вышла из тусовки? — писала в исповедальном эссе о своей депрессии журналистка Дафна Меркин. — Оплакивали бы меня, если бы я вообще не вернулась и не заняла снова своего места?»
К вечеру я становился способен встать с постели. Депрессия чаще всего каскадна[18] — в течение дня становится легче, к утру она опять подступает. Вечерами, не чувствуя никакого желания есть, я вставал и сидел в столовой за ужином с отцом, который отменил все свои планы, чтобы быть со мной. К этому времени я уже мог разговаривать и старался объяснить, каково все это. Отец кивал, без всяких сантиментов уверял меня, что все пройдет, и пытался заставить меня поесть. Он резал мне еду кусочками. Я просил — не надо меня кормить, мне не пять лет, но терпел поражение, не сумев наколоть кусочек бараньей отбивной на вилку, и он делал это за меня. Он все время вспоминал, как кормил меня в детстве, и заставлял обещать, шутя, конечно, что я тоже буду резать для него баранью отбивную, когда он станет стар и беззуб. Он поддерживал связь с некоторыми из моих друзей, а иные друзья сами мне звонили, и после ужина я чувствовал себя достаточно хорошо, чтобы звонить им. Иногда кто-нибудь даже заскакивал после ужина. Против всех ожиданий, я мог перед сном сам принять душ! И даже глоток воды после перехода через пустыню не мог бы быть желаннее этого торжества победы над собой и этой чистоты. Перед сном, уже накачавшись ксанаксом, но еще не уснув, я мог пошутить обо всем этом с отцом и друзьями, и в комнате появлялось ощущение той драгоценной близости, которое сопровождает болезнь, и иногда я чувствовал это чересчур сильно и вновь начинал плакать, а потом наступало время гасить свет, чтобы я мог опять уснуть. Иногда близкие друзья сидели со мной, пока я не уплывал в сон. Одна подруга порой держала мою руку, напевая колыбельные. В некоторые дни отец читал мне вслух книги, которые я любил в детстве. Я его останавливал. «Две недели назад я издавал роман! — говорил я. — Я работал по двенадцать часов в день и потом мог сходить на четыре пирушки за вечер. Что произошло?» Отец уверял меня, сияя, что скоро я смогу проделывать все это снова. С таким же успехом он мог говорить мне, что скоро я сумею построить вертолет из теста и улететь на нем на Нептун: так ясно виделось мне, что моя настоящая жизнь, та, которую я жил раньше, теперь решительно в прошлом. Время от времени паника ненадолго оставляла меня. Тогда приходило тихое отчаяние. Это необъяснимо, потому что не поддается логике. Было дьявольски неловко сообщать людям, что у меня депрессия, когда в моей жизни по всем параметрам было столько добра, и любви, и материального достатка… Для всех, кроме ближайших друзей, у меня был «неисследованный тропический вирус», который я «скорее всего, подхватил прошлым летом в поездке». Вопрос бараньей отбивной приобрел для меня особую символику. Моя приятельница-поэтесса Элизабет Принс написала:
Ночь
глухая, сырая: это
Нью-Йорк в июле.
Я была в своей комнате, прячась,
питая отвращение
к необходимости глотать.
Позже я прочел в дневнике Леонарда Вулфа описание депрессии Вирджинии: «Предоставленная самой себе, она ничего не брала в рот и могла постепенно довести себя до голодной смерти. Всегда было чрезвычайно трудно заставить ее съесть достаточно, чтобы сохранять здоровье и силы. Ее безумие пронизывало обыкновенно чувство некой вины, происхождение и природу которой я так и не обнаружил, но каким-то своеобразным образом это было связано с пищей и процессом еды. На ранней, острой, суицидальной стадии депрессии она, бывало, часами сидела, охваченная безнадежной меланхолией, молча, не отвечая на обращенные к ней слова. Когда приходило время поесть, она не обращала ни малейшего внимания на поданную ей на тарелке еду. Обычно мне удавалось склонить ее съесть немного, но этот процесс был ужасен. Каждый раз мы проводили за столом час или два; мне приходилось сидеть рядом с нею, вкладывать ложку или вилку ей в руку и время от времени очень тихо просить ее поесть, одновременно дотрагиваясь до ее руки. Раз в пять минут она могла машинально съесть ложечку».