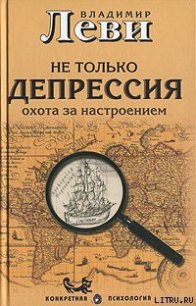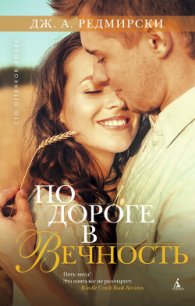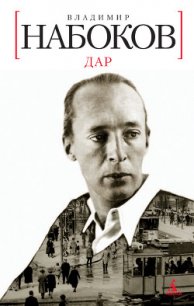Демон полуденный. Анатомия депрессии - Соломон Эндрю (книги бесплатно полные версии .txt) 📗
— Мне надо домой, — сказал я. Они были немало удивлены — ведь перед поездкой я торговался с ними за каждый лишний день и каждый лишний город, стараясь как можно дольше протянуть время за границей.
— Что-нибудь случилось? — спросили они, и я мог лишь сказать, что неважно себя чувствую и вообще все это оказалось не так безумно интересно, как я ожидал. Мама проявила понимание:
— Одному путешествовать трудно, — сказала она. — Я думала, ты встретишься там с друзьями, но все равно, это бывает ужасно утомительно.
— Если хочешь вернуться, — сказал отец, — сними деньги с моего счета, купи билет и возвращайся.
Я купил билет, упаковался и вернулся домой в тот же день. Родители встретили меня в аэропорту.
— Что случилось? — спрашивали они, но я только и мог сказать, что больше не мог там оставаться. В их объятиях я впервые за много недель почувствовал себя в безопасности. От облегчения я даже всхлипывал. Когда мы приехали в дом, где я вырос, я уже был в тоске и чувствовал себя полным идиотом. Я загубил лето своей мечты, свое путешествие; я вернулся в Нью-Йорк, где мне совершенно нечего делать. Я так и не увидел Будапешта. Я стал звонить друзьям, и они удивлялись, что это я вдруг объявился. Я и не пытался объяснять, что произошло. Остаток лета я провел дома, с родителями: скучал, раздражался и вечно хмурился, хотя нам по временам было хорошо вместе.
Шли годы, и я более или менее забыл обо всем этом. После того лета я поехал в Англию учиться в университете. Новый университет, новая страна — но я едва ли сколько-нибудь паниковал. Я сразу же вошел в новую жизнь, быстро завел новых друзей, с интересом учился. Я полюбил Англию, и меня уже вроде бы ничто не пугало. Тот нервический юноша, который в Америке уехал из дома учиться в колледже, уступил место крепкому, уверенному в себе, общительному парню. Когда я задавал пирушку, всем хотелось на нее попасть. С моими ближайшими друзьями (они и поныне в числе моих ближайших друзей) я просиживал ночи напролет в ощущении глубокой и живой близости, доставлявшей фантастическое наслаждение. Раз в неделю я звонил домой, и родители отмечали, что мой голос звучит счастливо, как никогда. Когда мне бывало не по себе, я тосковал по компании и всегда ее находил. Два года я был преимущественно счастлив, а недоволен только плохой погодой, невозможностью заставить всех любить меня с первого взгляда, недосыпом и начавшимся выпадением волос. Единственная депрессивная тенденция, преследовавшая меня постоянно, была сродни ностальгии: в отличие от Эдит Пиаф[15], я жалею обо всем просто потому, что оно прошло; еще в двенадцатилетнем возрасте я оплакивал ушедшее время. Даже в самом возвышенном настроении я всегда как бы борюсь с настоящим в бесплодной попытке не дать ему стать прошлым.
Первые годы после двадцати я помню как относительно спокойные. Я решил — просто так, под настроение — отправиться на поиски приключений и стал просто игнорировать свое болезненное беспокойство, даже когда оно бывало связано с устрашающими ситуациями. Через полтора года после окончания аспирантуры я начал ездить в Советский Союз, в Москву, где нелегально жил в чьих-то пустующих квартирах с художниками, которых там встретил. Однажды в Стамбуле кто-то попытался меня ограбить, но я дал отпор, и он убежал, ничего у меня не отняв. Я позволял себе испробовать всевозможные виды секса; я отбросил практически всю прежнюю сдержанность и эротические страхи. Я отращивал длинные волосы; я стригся наголо. Несколько раз я выступал с рок-группой; я ходил в оперу. У меня развилась страсть к приобретению опыта, и я получал его, как только мог, повсюду, куда мне было по карману добраться. Я влюблялся и обустраивал уютные домашние очаги.
А в августе 1989 года, когда мне было двадцать пять, у мамы обнаружили рак яичника и мой безупречный мир начал рушиться. Не заболей она, и моя жизнь сложилась бы совершенно иначе; если бы эта история была хоть чуть-чуть менее трагична, я, может быть, так и прожил бы жизнь с депрессивной тенденцией, но без явного срыва. Возможно, депрессивный эпизод случился бы у меня позже, во время кризиса среднего возраста; может быть, все произошло бы так, как и случилось в действительности. Если первую часть некой эмоциональной биографии составляют переживания-предвестники, то вторую — переживания-возбудители. В большинстве случаев самые глубокие депрессии предвосхищаются более легкими, которые прошли незаметно или просто сами по себе. Разумеется, многие люди, у которых вообще не возникает депрессии, тоже испытывают переживания, которые задним числом можно определить как предвосхищающие эпизоды, но если они ни к чему так и не привели, то просто выпадают из памяти — ведь то, что они, возможно, предвосхищали, так и не материализовалось.
О том, как все развалилось, я подробно рассказывать не стану: тем, кто знает эту изнурительную болезнь, все ясно и без меня, а для тех, кто не знает, это, вероятно, так и останется необъяснимым, каким оказалось для меня в мои двадцать пять лет. Достаточно сказать, что все было действительно ужасно. В 1991 году мама умерла. Ей было пятьдесят восемь. Меня охватила парализующая печаль. Но, несмотря на пролитые слезы и необъятную скорбь, несмотря на уход человека, на которого я всю жизнь полностью полагался, первый период после смерти матери я держался неплохо. Я пребывал в печали, я злился, но не был в безумии.
Тем летом я начал проходить курс психоанализа. Женщине, которая собиралась стать моим психоаналитиком, я сказал, что, прежде чем смогу начать, она должна дать мне обещание, что будет продолжать анализ, пока мы не завершим курса, что бы ни случилось — разве что она серьезно заболеет. Ей было к семидесяти. Она согласилась. Это была очаровательная и мудрая женщина, напоминавшая мне мать. Благодаря нашим ежедневным встречам мне удавалось сдерживать свою скорбь.
В начале 1992 года я влюбился. Она была блестяща, прекрасна, великодушна, добра и фантастически вовлечена во все, что составляло нашу жизнь; она была также невероятно трудным человеком. У нас был беспокойный, но по большей части счастливый роман. Осенью она забеременела и сделала аборт, отчего у меня появилось предощущение утраты. В конце 93-го мы разошлись — по взаимному согласию и с взаимной болью. Я соскользнул еще на одну ступеньку вниз.
В марте 1994 года психоаналитик сказала мне, что уходит на пенсию, потому что ездить в Нью-Йорк из Принстона, где она жила, ей стало трудно. Я уже не чувствовал себя в такой зависимости от нашей совместной работы, и подумывал ее закончить; тем не менее, когда она обрушила на меня эту новость, я не смог сдержаться, разрыдался и проплакал целый час. Обычно я плачу нечасто; так я не плакал с тех пор, как умерла мама. Я чувствовал себя бесконечно, смертельно одиноким, и покинутым, и обманутым, и преданным. На завершение нашей работы нам еще оставалось, пока оформлялась ее пенсия, несколько месяцев (она не знала сколько, вышло же больше года).
В том же месяце я пожаловался ей на утрату чувств, на бесчувствие, поразившее все мои отношения с людьми. Мне стала постылой любовь, работа, семья, друзья. Я стал меньше писать, а потом и вовсе забросил это занятие. «Я ничего не знаю, — писал когда-то художник Герхард Рихтер. — Я ничего не могу делать. Я ничего не понимаю. Я ничего не знаю. Ничего. И вся эта мука не делает меня особенно несчастным». Так и у меня — я не находил у себя никаких сильных эмоций, кроме странного, изводящего беспокойства. У меня всегда было неугомонное либидо, которое часто заводило меня в неприятности; теперь оно как бы испарилось. Я не чувствовал в себе «милой привычки» к физической и эмоциональной близости, меня не привлекали ни незнакомцы на улице, ни те, кого я знал и любил; в эротических ситуациях мои мысли уплывали к тому, что надо купить и какую работу закончить. От всего этого появилось ощущение, что я теряю свое Я, и это напугало меня. Я сознательно планировал удовольствия как часть жизненного расписания. Всю весну 1994 года я ходил по тусовкам и старался развлекаться, но у меня не получалось; я виделся с друзьями и старался поддерживать близость — ничего не выходило; я покупал дорогие вещи, о которых раньше мечтал, и не ощущал от этого никакой радости; в попытках разбудить свое либидо я ударился в ранее не испробованные крайности, смотрел порнографические фильмы и доходил до того, что пользовался услугами проституток. Этот новый опыт не приводил меня в особенный ужас, но и удовольствия, да даже и облегчения, не приносил. Мы с психоаналитиком обсудили ситуацию: я был в депрессии. Мы старались дойти до корней проблемы, а я все отстранялся от жизни, медленно, но неумолимо. Мне стали досаждать бесконечные сообщения на автоответчике — и это стало моим пунктиком: звонки, даже от друзей, стали восприниматься как непосильный гнет. Я перезванивал, а звонков становилось все больше. Я стал бояться водить машину. В темноте я не видел дороги, мои глаза высыхали. Я постоянно думал, что вот-вот врежусь в барьер или в другую машину. Бывало, еду по автостраде и вдруг чувствую, что не умею водить. В оцепенении я съезжал на обочину, весь в холодном поту. Я стал проводить выходные в городе, чтобы не водить машину. Мы с психоаналитиком просмотрели историю моих приступов меланхолии. Мне пришло в голову, что мой роман стой женщиной оборвался из-за того, что я был в ранней стадии депрессии, но я понимал, что разрыв мог, наоборот, стать одной из ее причин. Стараясь развязать этот узел, я пересматривал свою жизнь и пытался понять, с каких пор у меня депрессия: с того разрыва отношений; со смерти матери; с начала ее болезни два года назад; с окончания предыдущего романа; с пубертатного периода; с рождения. Скоро я уже ни о каком времени и ни о каком событии не мог подумать без того, чтобы не увидеть их симптоматичность. И все же это была всего лишь невротическая депрессия, более характеризующаяся тревожной тоской, чем безумием. Она вроде бы была мне подконтрольна: устойчивый вариант состояния, которое у меня уже бывало, в большей или меньшей степени знакомого многим здоровым людям. Депрессия наступает постепенно, как взросление.