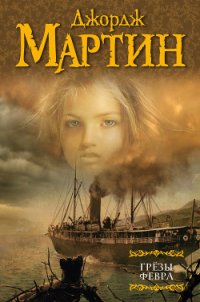Вода и грёзы. Опыт о воображении материи - Башляр Гастон (книги бесплатно без регистрации txt, fb2) 📗
IX
Лебедь в литературе – это эрзац нагой женщины. Это разрешенная нагота, это белизна, хотя и непорочная, но все-таки показная. Лебеди, по крайней мере, разрешают на себя смотреть! Тот, кто восхищается лебедем, испытывает желание к купальщице.
В одной из сцен второй части «Фауста» подробно передано, как на сцене появляется герой драмы, а также как – по-разному маскируясь – видоизменяется желание грезящего. Вот эта сцена, которую мы разделим на три картины: пейзаж – женщина – лебедь.
Вначале – безлюдный пейзаж:
Со всех сторон через осоку
Стекаются ручьи притока
В один, удобный для купанья,
Глубокий, чистый водоем.
«Плоское углубленное пространство для купания».
Zum Bade flach vertieften Raum
Итак, кажется, что природа создала нечто вроде склепов, чтобы скрыть купальщиц. И в поэме тотчас же, в соответствии с законом воображения вод, полое и наполненное свежестью пространство заполняется его обитательницами. И вот вторая картина:
В нем, отражаемая влагой,
Стоит и плавает ватага
Купальщиц, царственных собой.
Они разбрасывают брызги,
И слышны плеск, и смех, и взвизги
Веселой битвы водяной.
Тут желание сгущается, становится явственным, интериоризируется. Теперь это не просто зрелище, радующее глаз. Развертывается образ тотальный и живой:
Достаточно мила картина.
Зачем же я ее покину?
Но ненасытен взор живой
И рвется дальше под защиту
Кустарника, в котором скрыта
Царица за густой листвой.
И грезовидец действительно созерцает то, что прячется; из реального он творит тайну. Итак, вскоре появятся «скрытые» образы. Теперь мы – у самого ядра фантазма. Хорошо скрытое ядро вот-вот начнет стремительно расщепляться; вокруг него будут скапливаться далекие образы. И вот – сначала лебеди, потом Лебедь:
Вдруг, о прелесть! Горделиво
Лебеди плывут, залива
Ясности не всколыхнув.
Их скольженье – нежно, плавно.
И у каждого державны
Шея, голова и клюв.
Но один, всю эту стаю
Смелостью опережая,
Круто выгибает грудь.
Шумно раздувает перья
И к святилища преддверью
Прямо пролагает путь[83].
Гёте поставил в надлежащих местах многоточия, столь редкие в классической немецкой литературе (стихи 7300 и 7306. Издание Германа Болау, Веймар, 1888). Как часто и бывает, многоточия «психоанализируют» текст. Они намекают на то, что не должно быть сказано ясно. Мы позволили себе убрать из перевода Порша многочисленные многоточия, каковых нет в немецком тексте и которые были добавлены, чтобы передать неопределенность; ему, однако, не хватает искренности и подлинности, особенно если сравнить эти места с теми неясными местами, которые требуют психоанализа.
Впрочем, любому, кто получил хотя бы мало-мальскую подготовку в области психоанализа, нетрудно уловить в этом последнем образе лебедя мужские черты. Как и все архетипы, действующие в подсознании, лебедь ассоциируется с образом гермафродита. При созерцании светящихся вод лебедь – женского пола; в действии он – мужского пола. Для бессознательного всякое действие есть половой акт. Для бессознательного не существует ничего, кроме половых актов. Образ, наталкивающий на мысль о коитусе, должен эволюционировать в подсознании от своего женского «полюса» к мужскому.
Итак, эта страница второй части «Фауста» дает нам хороший пример того, что мы будем впредь называть полным образом, или, скорее, полностью динамизированным образом. Иногда воображение накапливает образы в направлении все большей чувственности. Сначала оно подпитывается отдаленными образами; оно грезит, созерцая обширную панораму; затем – выделяет некий тайный уголок, в котором конструирует образы, все более напоминающие людей. От невинного зрелища, радующего глаз, оно переходит к более сокровенным желаниям. Наконец, в апогее обольстительной грезы видения превращаются в сексуальные «поползновения». Они наводят на мысль о коитусе. И тогда «перья раздуваются, лебедь приближается к священному убежищу…».
Еще один шаг в русле психоанализа – и станет понятно, что песнь лебедя перед его смертью можно истолковать как красноречивые клятвы влюбленного, как разгоряченный голос обольстителя в предвкушении кульминационного момента у порога, столь фатального для экзальтации, что его поистине можно назвать «смертью от любви».
Эта лебединая песня, песнь сексуальной смерти, песнь экзальтированного желания, жаждущего утоления, крайне редко встречается в чистом виде комплекса. Она больше не находит отклика у нас в подсознании потому, что метафора «лебединая песня» – лишь одна из банальнейших метафор. Это метафора, которую раздавили напускным символизмом.
Когда лафонтеновский лебедь поет «свою последнюю песнь» под ножом у повара, поэзия перестает жить, она больше не волнует, она теряет свойственную ей значимость, от чего выигрывает либо условный символизм, либо старомодное реалистическое восприятие.
В лучшие годы реализма еще и спрашивали, позволяет ли глотка лебедя петь настоящую песнь и даже издавать крик агонии! Ни как условность, ни как явление реальной действительности метафора «лебединая песня» необъяснима. Как и для ряда прочих метафор, ее обоснования следует искать в бессознательном. Образ «лебедя», если только наша общая интерпретация отражений точна, всегда ассоциируется с неким желанием. И это потому, что он поет желание. Ясно, что существует одно-единственное желание, которое поет, умирая, а умирает с пением, желание это – сексуальное. Значит, лебединая песня – это сексуальное желание в своей кульминационной точке.
Нам кажется, что только наша интерпретация может, к примеру, истолковать все подсознательные и поэтические отголоски цитируемой ниже прекрасной страницы из Ницше[84]. Трагический миф «выталкивает феноменальный мир к самым его пределам, когда он уже отрицает сам себя, стремясь возвратиться в лоно истинной и единственной реальности, и тогда кажется, что он, подобно Изольде, напевает эту метафизическую лебединую песнь»:
В нарастании волн,
В этой песне стихий
В беспредельном дыханье миров
Растаять,
Исчезнуть,
Все забыть…
О, восторг!..[85]
Что же это за жертвоприношение, которое уничтожает живое существо, топя его в благоуханных волнах; которое воссоединяет живое существо с целым мирозданием, что вечно трепещет и укачивает, подобно морскому течению? Что же это за жертвоприношение, от которого живое существо погружается в такое упоение, что не осознает ни собственной гибели, ни собственного счастья – и при этом поет? Нет, это не окончательная смерть. Так умирает лишь один вечер. Это переполняющее душу желание увидеть новое рождение сверкающего утра, увидеть день, снова воздвигающий образ лебедя над водной гладью[86].