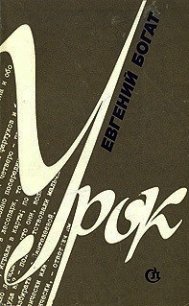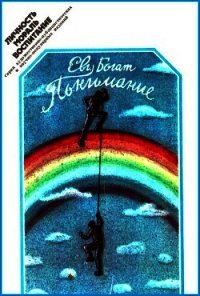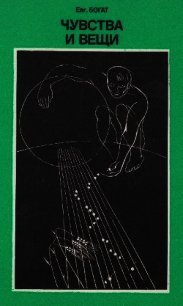Узнавание - Богат Евгений Михайлович (версия книг TXT) 📗
«Вол. 1819. Козья жимолость, при спуске».
Стендаль размышляет на этой странице о том, чье счастье больше: Дон Жуана или Вертера? Посетители блестящих салонов и гостиных Милана и Парижа часто видели в самом Стендале Дон Жуана. Редкие современники догадывались, что сердце его было сердцем Вертера. Оно и подсказывает ему выбор, когда он сопоставляет счастье первого и счастье второго.
«Любовь в стиле Вертера, — пишет Стендаль, — похожа на чувство школьника, сочиняющего трагедию, и даже в тысячу раз лучше; это новая жизненная цель, которой все подчиняется, которая меняет облик всех вещей. Любовь-страсть величественно преображает в глазах человека всю природу, которая кажется чем-то небывало новым, созданным только вчера. Влюбленный удивляется, что никогда раньше не видел необычайного зрелища, которое теперь он открывает в своей душе. Все ново, все живет, все дышит самым страстным интересом». Вот тут он и делает эту сноску: «Вол. 1819. Козья жимолость, при спуске».
Стендаль вообще, как никто из писателей, любил сноски. Он фиксирует в них самое разнообразное: самочувствие и состояние погоды, когда он писал, книги, из которых черпал мысли и образы, неожиданные воспоминания. К числу последних относится, несомненно, и эта: «Вол.».
«Вол.» — это, видимо, Вольтерра, итальянский город на Тосканском плоскогорье. В этом уединенном городе, похожем на крепость, Стендаль пережил самое большое счастье — то, которое не оставляет по себе воспоминаний, настолько потрясена душа, — и самое большое несчастье. Было это в июне 1819 года в самые великие, в самые трагические дни его любви к Метильде Дембовской.
Она разрешила ему видеться с ней не чаще двух раз в месяц.
«Жизнь Сальвиати разделялась на двухнедельные периоды, носившие окраску настроения тех вечеров, в которые ему разрешалось видеться с г-жой…; 21 мая, например, он был вне себя от счастья, а 2 июня не хотел возвращаться домой из боязни поддаться искушению пустить себе пулю в лоб», — писал Стендаль потом в книге «О любви». (Но тут же, глубоко сострадая Сальвиати, он не мог воздержаться от несравненного стендалевского замечания: «Такие встречи хороши тем, что они пополняют сокровищницу кристаллизации».)
В июне 1819 года Метильда Дембовская уехала из Милана в Вольтерру. Стендаль не вынес разлуки, последовал за ней, переменив платье, надев большие роговые очки: он не был избалован любимой женщиной и понимал, что будет строго наказан, если она его узнает.
И он ее увидел, пережил счастье настолько острое, что все подробности той минуты ускользнули от его сознания. Она его узнала.
«Женщина может быть могущественна, — писал позднее Стендаль, — в меру несчастья, которым она может покарать…»
Могущество Метильды Дембовской по отношению к Стендалю было беспредельным.
И вот в уединенной Вольтерре, на острой грани счастья и отчаяния, он увидел и запомнил козью жимолость при спуске.
В сущности, ничего загадочного… И что я хотел бы услышать от Стендаля в ту неоценимую, единственную минуту об этой козьей жимолости? Разве сам я не понимаю, почему резко обнажилось воспоминание о ней, когда он писал через несколько лет о любви, величественно преображающей в глазах человека всю природу?
Эта единственная по емкости подробность может быть сосулькой, истекающей каплями над пестрой мартовской улицей, лаконичной конструкцией моста, освещенного углями заката, или летящим бесконечно долго осенним листом… Важно, чтобы была она в жизни, хотя бы один раз, эта «деталь», вобравшая в себя все удивительное в мире. И конечно, вовсе не надо быть великим писателем, чтобы пережить такое состояние, когда «все ново, все живет, все дышит самым страстным интересом». Надо любить.
И все же, несмотря на то, что, казалось бы, все ясно, я заговорил бы со Стендалем именно о кусте козьей жимолости. Может быть, затем, чтобы уловить выражение его лица, услышать его молчание, долгую минуту думать с ним об одном: о том, что в реальной жизни возможно волшебное зрелище, когда дерево, скала, облако содержательно повествует любящему что-то новое о любимом человеке…
Воспоминание о Д?Аламбере
Несколько лет назад я написал повесть «Ахилл и черепаха». Рассказывалось в ней не о герое любимого детьми античного мифа, а о сегодняшней жизни. При чем же тут Ахилл? Ахилл — это ум. Черепаха — сердце. В повести «Ахилл и черепаха» речь шла о том, что и в эпоху научно-технической революции, когда могущество человеческой мысли меняет облик мира, не надо утрачивать равновесия между умом и сердцем. Мысль быстронога, как Ахилл. В известном парадоксе античного мудреца Зенона доказывается с помощью хитроумных доводов, что Ахиллу, не имеющему себе равных в беге, все же не удастся никогда перегнать черепаху. Но и сам этот парадокс, то есть странное утверждение, — игра ума.
Но почему под «черепахой» я подразумеваю сердце? Во-первых, потому, что если уж назван ум Ахиллом, то черепаха напрашивается сама собой: парадокс Зенона навечно соединил самого быстроногого героя с самым медлительным существом. А во-вторых, потому что я люблю черепах.
У нас дома долго жила большая черепаха. Дочь хотела маленькую, но в зоомагазине были только большие, и я выбрал самую маленькую из них. Она степенно, с достоинством несла великолепный панцирь, лениво передвигалась по паркету. Ее серое первобытное тело при малейшей опасности убиралось под панцирь и поэтому вызывало почти болезненное чувство чего-то нежного и нервного.
Однажды вечером, возвращаясь домой, я увидел издали у нас во дворе мальчишек и девчонок, склонившихся над чем-то, и, подойдя поближе, заметил заплаканное лицо дочери. У их ног на асфальте животом кверху лежала черепаха: она упала с балкона четвертого этажа… Камень о камень, живой камень о мертвый. И мертвый — победил…
Когда я осторожно перевернул ее, мы увидели, что панцирь расколот, сквозь трещину виднелось окровавленное тело. Казалось бы, черепаха далека от человека, намного дальше, чем собака или даже дерево. Но в ту минуту, может быть, из-за ее беспомощности, я ощутил сострадание и нежность, которые мое сердце запомнило навсегда. Она умерла через день.
После того как повесть «Ахилл и черепаха» была напечатана, один из читателей написал мне, что ему хотелось бы «побольше узнать о людях, живых или вымышленных, сегодняшних или из давно минувших веков, которые при обширном замечательном уме, оставившем отпечаток на развитии науки, отличались не менее обширным и замечательным сердцем».
Несмотря на несколько витиеватый стиль, мне почудилось в этом человеке — может быть, из-за его желания «побольше узнать» — что-то детское. И я рассказал ему об удивительной жизни и удивительной любви Д’Аламбера, как рассказал бы дочери. Мне помогла в этом старая-старая книга, выпущенная в минувшем, XIX веке в России, посвященная странностям человеческого сердца и человеческих отношений. «Существует ходячее и неверное мнение, — написано в ней, — что наука сушит ум и леденит сердце. Никакие отвлеченные рассуждения не могут с такой силой обнаружить несправедливость упомянутого ходячего мнения, как отношение Д’Аламбера к госпоже Леспинас».
Д’Аламбер был великим математиком и великим физиком. Одно из совершенных им открытий носит название «закона Д’Аламбера». Он был широко известен и как автор научных и философских статей в «Энциклопедии», которую издавали во Франции замечательные люди XVIII века, вошедшие в историю под именем «энциклопедисты». Он говорил о себе в конце жизни: «Да, математика это моя старая любовь, самая верная моя возлюбленная».
Но стоило ему почувствовать, что его сердце может облегчить чью-то боль, он забывал о «самой верной возлюбленной», которая, что ни говорите, была не человеком, а математикой. Его любовь к математике не заглушала остальных чувств.
Однажды, когда он утром усердно работал, ему сообщила хозяйка дома, в котором он занимал маленькую комнату, что его хочет видеть неизвестный ей молодой человек. Д Аламбер, заметив расстроенное выражение лица молодого человека, усадил его, попросив мадам Руссо, хозяйку дома, чтобы к нему больше никого не пускали, затем подошел к незнакомому гостю, обнял его и спросил с нежным участием: «Что с вами?» Молодой человек рассказал о несчастной любви, и Д’Аламбер посоветовал ему как можно реже оставаться одному. «Но я совершенно один в Париже». — «Заходите чаще ко мне, я буду вас развлекать».