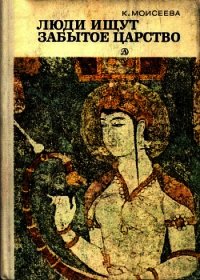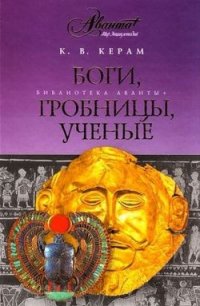Неслучайные случайности - Азерников В. (читать книги онлайн бесплатно серию книг .TXT) 📗
Четвертый, пятый, десятый раз повторяют опыт Зина и Юлий Борисович — словно дьявол поселился в их колбе: выше определенного критического давления реакция идет, ниже — не идет. А должно, по их предположению, не то чтобы совсем наоборот, но нечто вроде. Причем, поскольку давление кислорода в ходе реакции неизбежно падало, приходил момент, когда в колбе воцарялось то самое критическое давление и окисление словно автоматически прекращалось. И жди, не жди — дальше не идет. По двое суток стерегли растерянные ученые, надеясь, что дьявол неудачи изгонится каким-то образом из установки и она оживет: и сидели, и смотрели, и боялись пропустить этот момент, хотя чего бояться — он сразу бы стал виден. Но, увы, божественный свет истины погас, словно прикрытый чьей-то злой рукой.
Но стоило впустить в колбу малую толику кислорода, и свечение опять появлялось. Это было очень удивительно. Но еще более возросло удивление ученых, когда реакция ожила при добавлении в сосуд не кислорода даже, а небольшого количества аргона. Понять сие уж вовсе было нельзя: инертный газ, называемый так потому, что он не способен вступать в химические реакции, восстанавливал реакционную способность кислорода. Нет, положительно в лаборатории электронных явлений происходило нечто, что могло бы дать повод недоброжелателям переименовать ее в лабораторию странных явлений.
Но, как остроумно заметил один ученый, задача науки — объяснить то, что нельзя понять. И Семенов, заинтересованный не меньше, чем Харитон и Вальта, вместе с ними стал подбирать какой-нибудь теоретический ключ к непонятному экспериментальному парадоксу. Возились они возились, и так пытались и этак — ничего не получалось. Нельзя было с помощью существующих теоретических представлений объяснить то, что они сами же вызвали к жизни.
А время шло, а другие дела — нормальные и понятные — требовали к себе внимания, а Харитону уезжать надо за границу, на стажировку, а одной Зиночке здесь уж, ясное дело, не управиться, когда и втроем ничего не выходило, и что было делать в такой ситуации? Не сказать всем о том, что они обнаружили, нельзя, а сказать по этому поводу нечего; порешили выбрать золотую середину: ничего не объясняя, просто описать в статье экспериментальную находку.
Вскоре статья за подписью Юлия Харитона и Зинаиды Вальта была опубликована в двух журналах — у нас в стране и в Германии. Ученые посчитали на этом свой долг исполненным и перешли от бесплодного изучения мистических явлений к делам земным. Ю. Б. Харитон, как и собирался, уехал за рубеж; Зиночка, расстроенная, вероятно, своим неудачным дебютом в науке, почти конфузом, оставила лабораторию, куда еще недавно так стремилась, и перешла в аспирантуру другого института; а Николай Николаевич, по-видимому, вздохнул с облегчением, когда с его плеч упали сразу две горы: необъяснимый эксперимент и сотрудница, требующая объяснить ей, что делать дальше.
И открытие не состоялось.
Через тридцать пять лет после этого дня Николай Николаевич Семенов, уже умудренный жизнью, познавший цену неожиданностям в науке и понявший в полной мере долг исследователя, написал: «Никогда не следует проходить мимо неожиданных и непонятных явлений, с которыми невзначай встречаешься в эксперименте. Самое важное в эксперименте — это вовсе не то, что подтверждает уже существующую, пусть даже вашу собственную, теорию (хотя это тоже, конечно, нужно). Самое важное то, что ей ярко противоречит. В этом диалектика развития науки».
Но тогда, в 1925 году, двадцатидевятилетний физик чуть было не упустил открытие разветвленных цепных реакций и Нобелевскую премию — он расстался со своей идеей, мысленно засунув ее обратно в стол как негодную или, во всяком случае, неактуальную теперь, и, как признал сам позже, не думал к ней возвращаться.
И не вернулся бы, если бы статью Вальта и Харитона не прочел Макс Боденштейн и не расчехвостил ее по всем пунктам.
Боденштейн был крупным немецким химиком, известным прежде всего тем, что за двенадцать лет до этого открыл цепные неразветвленные реакции. Он обнаружил вначале, что при соединении хлора с водородом реакция идет не так, как положено по старой доброй теории реакционной способности, а в сто тысяч раз быстрее. Считалось, что для взаимодействия двух газов молекула хлора должна сначала поглотить квант света, возбудиться и только тогда уже стать способной к взаимодействию с водородом. И если это так, то для каждого элементарного акта в реакции требовался один квант света. А Боденштейн посчитал, что поглощение всего одного кванта света приводит к сотне тысяч химических взаимодействий. Сам он вначале не мог объяснить этого парадокса. Объяснение ему дал в 1918 году выдающийся немецкий физикохимик Вальтер Нернст, предположивший, что при поглощении кванта энергии молекула хлора разлагается на два атома, каждый из которых очень агрессивен. Поэтому он легко реагирует с молекулой водорода, состоящей также из двух атомов, образуя хлористый водород и свободный атом водорода. Тот в свою очередь реагирует с двухатомной молекулой хлора, и все повторяется. Реакция идет, как по цепи, она и называется цепной реакцией. А в тот момент, когда возбужденный атом хлора сталкивается с какой-нибудь инертной молекулой, способной забрать у него часть его энергии, атом успокаивается — происходит, как говорят, обрыв цепи, реакция останавливается. Точно так же она может затухнуть, если атом отдаст избыток энергии стенке сосуда, ударившись о нее.
Боденштейн, открывший цепные неразветвленные реакции, считался по справедливости главой ученых, работающих в области химической кинетики. И когда в его статье, написанной в ответ на публикацию Вальта и Харитона, прозвучало скрытое осуждение ленинградских ученых за спешку, небрежность в постановке опыта, за то, что они запутались в трех соснах, которые сами же и посадили, — от таких обвинений нельзя было просто отмахнуться, надлежало поднять брошенную перчатку и принять вызов. И поскольку здесь была задета честь всей лаборатории, то к барьеру должен был выйти ее руководитель.
Николай Николаевич внимательно прочитал заметку Боденштейна. Аргументы немецкого химика звучали действительно убийственно. Ведь что получалось по Боденштейну? Получалось, что порок — в самой схеме установки, ока собрана так, что кислород, поступая в сосуд через ловушку, непременно должен был сталкиваться со встречным потоком паров фосфора, стремящихся, естественно, вытолкнуть его обратно, не допустить к реакции. Поэтому и приходилось повышать давление кислорода — чтобы он одолел встречное давление. То же самое происходило, когда к кислороду добавляли аргон: он также повышал давление смеси и открывал таким образом кислороду доступ в сосуд. В заключение Боденштейн вообще не советовал кому-либо заниматься столь безнадежными опытами.
Обстановка усугублялась тем, что статью Боденштейна прочли и другие сотрудники лаборатории, стала она известна и институтскому руководству. Начались разговоры; сначала тихие, вполголоса, никого прямо не обвиняющие, лишь намекающие на легкомысленность некоторых заведующих некоторыми лабораториями; потом критические голоса стали слышны довольно громко; Семенов оказывался в сложных отношениях не только с немецким ученым, но и с собственными коллегами. Ситуация создавалась неприятная, она требовала немедленных действий.
Николай Николаевич решил сам заняться проклятым фосфором и ради этого даже бросить на время все другие дела.
Сначала надо было продумать во всех деталях будущий эксперимент. Было ясно, что установку следует изменить так, чтобы из нее выпало уязвимое место — ловушка фосфора, которая оказалась ловушкой для них самих.
Зачем нужна была она? Чтобы не допустить попадания фосфора в ртутный манометр. Значит, надо заменить манометр, поставить такой, чтобы он не боялся соприкосновения с парами фосфора, тогда не будет необходимости городить огород с охлаждением.
Так и сделали. Новый простой сернокислотный манометр крепился непосредственно к сосуду, а кислород поступал сам по себе. После нескольких опытов стало видно, что, во-первых, Боденштейн частично прав, но, во-вторых, что правы и физтеховцы. Фосфорная пробка действительно образовывалась в прежнем опыте, но и кислород тем не менее не реагировал с фосфором ниже критического давления. Оно было, правда, не такое низкое, как раньше, но все же оно реально существовало. Оно измерялось теперь не по остановке реакции, а по возникновению свечения при медленном впускании кислорода через капилляр.