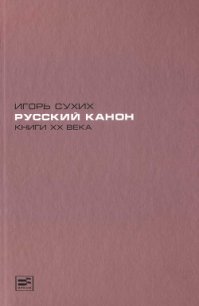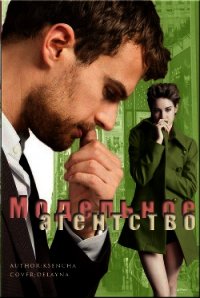Книги XX века: русский канон. Эссе - Сухих Игорь Николаевич (лучшие книги TXT) 📗
«…И уже рассвисталась над пустырем холодная свистопляска; посвистом молодецким, разбойным она гуляла в пространствах – самарских, тамбовских, саратовских – в буераках, в песчаниках, в чертополохах, в полыни, с крыш срывая солому, срывая высоковерхие скирды и разводя на гумне свою липкую гниль…» Нужно быть глухим, чтобы не расслышать в этом описании (сокращенном в три раза) зловещее трассирующее «с-с-с».
И революция пятого года, что бы там ни говорил Белый впоследствии, в «Петербурге» для него не фабульная эмпирика – митинги, забастовки и провокации, – а прежде всего звук.
«Таковы были дни. А ночи – выходил ли ты по ночам, забирался ли в глухие подгородние пустыри, чтобы слышать неотвязную злую ноту на “у”? Уууу-уууу-уууу: так звучало в пространстве; звук – был ли то звук? Если то и был звук, он был несомненно звук иного какого-то мира; достигал этот звук редкой силы и ясности: “уууу-уууу-ууу” – раздавалось негромко в полях пригородных Москвы, Петербурга, Саратова: но фабричный гудок не гудел, ветра не было; и безмолвствовал пес.
Слышал ли и ты октябревскую эту песню тысяча девятьсот пятого года? Этой песни ранее не было; этой песни не будет: никогда».
Подзаголовок «Петербурга» («Роман в восьми главах с прологом и эпилогом»), старомодно-завлекательные заглавия и подзаголовки («Глава вторая, в которой повествуется о неком свидании, чреватом последствиями», «Я гублю без возврата»), обязательные эпиграфы, чопорные повествовательные переходы («Мы оставили Софью Петровну Лихутину – одну, на балу; мы теперь к ней вернемся обратно». – «Это видели мы в предыдущей главе». – «Анна Петровна! О ней позабыли мы…») – обещают «роман классический, старинный, отменно длинный, длинный, длинный, нравоучительный и чинный, без романтических затей» (А. С. Пушкин).
На самом деле с таким жанром роман Белого не имеет ничего общего, кроме длины. «Петербург» – роман-эксперимент, трансформирующий привычные жанровые структуры, в их числе и сложившиеся в XIX веке. Белый – на новом витке – продолжает пушкинский принцип «свободного романа», осуществленный в «Евгении Онегине». «Затеи» для него важнее героев, отступления – существеннее фабулы, звук становится смыслом.
Фабула «Петербурга» в сущности новеллистична. Она развертывается в пятисотстраничную книгу гипертрофией объяснений и отступлений, лирической «болтовни» и языковой игры.
Ю. Тынянов назовет «Евгения Онегина» книгой, доминантой в которой стали отступления. Даже главный герой, с его точки зрения, – «отступление в романе отступлений». Аблеуховы и Лихутины в «Петербурге», пожалуй, даже эфемернее, чем Онегин и Ларины. А бесплотный беловский Автор занимает в романе такое же центральное место, как «образ автора» у Пушкина. «Подлинное местодействие романа – душа некоего не данного в романе лица, переутомленного мозговою работой; а действующие лица – мысленные формы, так сказать, не доплывшие до порога сознания. А быт, “Петербург”, провокация с проходящей где-то на фоне романа революцией – только условное одеяние этих мысленных форм. Можно было бы роман назвать “Мозговая игра”», – объяснял Белый в одном из писем 1913 года.
Объяснение это поразительно похоже на гоголевскую позднюю интерпретацию его комедии в развязке «Ревизора», где бытовая характерность превратилась в драму сознания: «Всмотритесь-ка пристально в этот город, который выведен в пьесе! Все до единого согласны, что этакого города нет во всей России… Ну а что, если это наш же душевный город и сидит он у всякого из нас?.. Будто не знаете, кто этот ревизор? Что прикидываться? Ревизор этот – наша проснувшаяся совесть, которая заставит нас вдруг и разом взглянуть во все глаза на самих себя». В ответ исполнявший роль Городничего М. Щепкин просил автора забрать себе страсти, а ему оставить «настоящих, живых людей», к которым он давно привык.
К Белому с такими просьбами, кажется, не обращались. Потому что не только его персонажи, но даже Автор – бесплотный голос, мозговая игра (часто необычайно серьезная), стиль и прием.
Через четверть века В. Ходасевич увидит ключ к творчеству Набокова в категории «приема». «Его произведения населены не только действующими лицами, но и бесчисленным множеством приемов, которые, точно эльфы или гномы, снуя между персонажами, производят огромную работу: пилят, режут, приколачивают, малюют, на глазах у зрителя ставя и разбирая те декорации, в которых разыгрывается пьеса. Они строят мир произведения и сами оказываются неустранимо важными персонажами». Как ни странно, к Белому это наблюдение подходит даже больше, чем к Набокову. Помимо «звуковых сквозняков», роман прошит сквозными мотивами: та же мозговая игра, бездна, пустота, тьма, изморось, ледяная пустыня.
Большинство цветовых эпитетов наглядно (и навязчиво) символичны: желтизна парадного Петербурга, зелень враждебного Васильевского острова, красный цвет – «эмблема Россию губившего хаоса», черный цвет смерти и предательства. «Фон “Петербурга” – “рои грязноватых туманов”; на фоне – игра черных, серых, зеленых и желтых пятен… Преобладающая в “Петербурге” двухцветка: черное, серое: черная карета, в ней – серое лицо и черный цилиндр; на сером тумане – пятно “желтого дома”; на нем – серый лакей и подъезжающая карета (черная); зеленые пятна: офицерского и студенческого мундиров; зеленоватые воды, зеленоватый цвет лиц; на серо-зеленом красные вспыхи: красный фонарик кареты и красное домино.
Такова цветопись “Петербурга”; она соответствует трагикомедии (черно-желтый тон) морока (серый)» («Мастерство Гоголя»).
Арматурой, скелетом романа становятся разнопорядковые оппозиции, охватывающие и место действия, и персонажей, и семантику. Их конструированию Автор отдается со страстью и сластью. Петербург – Россия, город – деревня (дали), центр – острова, карета – проспект, прямая линия – зигзаг, отец – сын, чиновник – обыватель, дворянин – разночинец, люди – тени, лицо – маска, лицо – лик, любовь – ненависть, революция – эволюция, Анни Безант – Карл Маркс, красный шут – японская кукла, нормальные люди – безумцы, пространство – второе пространство (сознания) и т. д. и т. п.
Способом демонстрации оппозиций часто становится резкая смена ракурса, оптики, точки зрения.
«Говорили чиновники: “Наш Нетопырь…”» Вдруг Нетопырь появляется. «Аполлон Аполлонович подошел к окну; две детские головки в окнах там стоящего дома увидели против себя за стеклом там стоящего дома лицевое пятно неизвестного старичка.
И головки там в окнах пропали».
Чиновники и безымянные дети в окне видят разных Аблеуховых: Нетопырь – старичок – еще одна мгновенно возникающая в этой точке текста оппозиция.
«Мгновение помолчали все трое; каждый из них в то мгновение испытывал откровеннейший, чисто животный страх.
– “Вот, папаша, мой университетский товарищ… Александр Иванович Дудкин…”
– “Так-с… Очень приятно-с”.
Аполлон Аполлонович подал два своих пальца; те глаза не глядели ужасно; подлинно – то ли лицо на него поглядело на улице: Аполлон Аполлонович увидал пред собой только робкого человека, очевидно пришибленного нуждой.
Александр Иванович с жаром ухватился за пальцы сенатора; то, роковое отлетело куда-то: Александр Иванович пред собой увидал только жалкого старика.
Николай Аполлонович на обоих глядел с той неприятной улыбкой; но и он успокоился; робеющий молодой человек подал руку усталому остову. Но сердца троих бились; но глаза троих избегали друг друга».
Несколько часов назад они смотрели друг на друга как враги: разночинец на мокрой улице с бомбой-узелком в зигзагообразной руке – и сенатор в футлярном кубе лакированной кареты. «Незнакомец поднял глаза и – за зеркальным каретным стеклом, от себя в четырехвершковом пространстве, увидал не лицо он, а… череп в цилиндре да огромное бледно-зеленое ухо.
В ту же четверть секунды сенатор увидел в глазах незнакомца – ту самую бескрайность хаоса, из которой исконно сенаторский дом дозирает туманная, многотрубная даль и Васильевский Остров».
И вдруг оппозиция меняется: робкий молодой человек подает руку безобидному старику, со стороны на них смотрит Аблеухов-сын, и этот треугольник взглядов охвачен кольцом авторского всеведения.