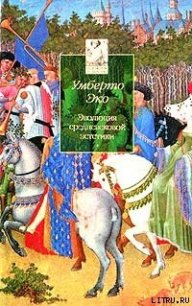Понятие "революция" в философии и общественных науках: Проблемы, идеи, концепции - Завалько Григорий Алексеевич
Им подходит термин «восстание» – отказ от подчинения эксплуататору, который, несколько модернизируя, можно назвать варварской формой забастовки. Подобно ей и в отличие от революции, восстание служит прогрессу не прямым осуществлением поставленных задач, а косвенно, заставляя эксплуататоров считаться с силой эксплуатируемых.
Восстание не может достичь социальной победы (военная возможна), так как прекращение эксплуатации прекратило бы прогресс, но может послужить смягчению эксплуатации. Восстания стимулируют проведение прогрессивных реформ и предотвращаются ими. Революции делают реформы излишними и не могут быть предотвращены. Революции «снизу» включают восстания, но не сводятся к ним, так как «низы» власти не добиваются.
К восстаниям относятся и самостоятельные выступления почти всех эксплуатируемых классов – рабов и, как правило, крестьян. Успехи ремесленников в ходе коммунальной революции приводили к власти цеховую верхушку, со временем превращавшуюся в патрициат, в свою очередь феодализировавшийся. Они не были безрезультатны, но уровня революционного создания нового строя не достигали.
Интересным исключением в многовековой борьбе «низов» за свою власть является создание крестьянских республик средневековой Европы – Исландия, Сан-Марино, Дитмаршен, возможно – лесные кантоны Швейцарского Союза, северогерманская Фрисландия [730]. К этому же типу социоров относились переселенческие бурские республики Трансвааль и Оранжевая Республика.
В истории некоторых из них, на мой взгляд, мы прямо видим социальные перевороты.
Так, в Исландии в XI-XII веках были экспроприированы и поделены владения крупных землевладельцев, потомков первопоселенцев [731]. После этого и до подчинения Норвегии в 1262 году Исландия пережила период яркого культурного расцвета, памятником которого остались исландские саги – единственная средневековая литература на родном языке. Ничем иным, кроме как социальной революцией, причем именно революцией «низов», этот переворот назвать нельзя. В островных условиях Исландии она прошла в наиболее чистом виде.
Выскажу свое предположение: здесь мы имеем дело не с простой задержкой в развитии, как в горной Шотландии, а с самой необычной из локальных социальных революций – успешным сознательным предотвращением перехода к классовому обществу. Ее прогрессивность обусловлена отрицанием регрессивных черт такого перехода и проявляется только на локальном уровне – в окружении классовых социоров. Она не просто прошла «снизу», но непосредственно в интересах крестьян.
Победивший строй может быть назван неопредклассовым. Слом (или преграда на пути возникновения) классового общественного устройства обрекал крестьянские республики на лишенную антагонизмов застойность, ставшую оборотной стороной антагонистического прогресса в классовом обществе. Однако этот застой и был адекватным воплощением устремлений крестьянства как класса. Поэтому думаю, что можно говорить об очень необычном, но все же прогрессивном для своего времени и места перевороте. Положение крестьянства в этих республиках, бывших не «изолятами», а своеобразными участниками общественной жизни Европы, коренным образом отличалось в лучшую сторону от положения крестьянства у их феодальных и парафеодальных соседей.
Там крестьянство на революции было неспособно. «Если бы замки не пылали с мая 1789 года, не было бы взятия Бастилии» [732], – писал П. А. Кропоткин, и был прав. Но верно и обратное: без взятия Бастилии и, главное, без созыва Генеральных штатов поджоги замков ничего не изменили бы в истории Франции. Только буржуазная революция сделала перемены необратимыми, приведя к власти новый класс. Тем более безреволюционным было крестьянство Востока, включая Россию, вплоть до появления возможности возникновения индустриального политаризма.
Успехи крестьянства не означают прогресса для социора в целом. В ходе Великой Французской революции, как известно, крестьянство частично добилось своего, выкупив и разделив земли дворян. В капитализм Франция вошла с довеском – мощным мелкособственническим укладом. Оценка этого явления (парцеллизации) историками неоднозначна. Марксистская историография считала его (наряду с якобинской диктатурой) лучшими чертами Великой Французской революции. Некоторые французские историки, в первую очередь Ф. Фюре, оценивают его как регресс, помеху для развития капитализма, как слабую сторону Французской революции по сравнению с Английской [733]. Видимо, на этот раз прав Ф. Фюре. Эта проблема относится к чисто историческим, и решить ее могут только сами историки.
Сложным является вопрос о революционной роли класса наемных работников (пролетариата). На данный момент предсказания Маркса и Энгельса о пролетарской революции не оправдались. Парижская Коммуна 1871 года в силу краткости своего бытия является аргументом не за, а против возможности чисто пролетарской революции.
Единственным необратимым результатом этих событий стало свержение монархии, так что по сути можно говорить лишь о буржуазно-демократической революции 1870-1871 годов во Франции, включавшей пролетарское восстание. Временная власть пролетарской Коммуны в Париже не делает восстание пролетарской революцией, так же как власть буржуазной организации Ормэ в Бордо во время Фронды (продолжавшаяся больше года) не делает Фронду буржуазной революцией.
Но, с другой стороны, конец капитализма еще неясен, поэтому хоронить могильщика буржуазии до ее похорон, как это делали Г. Маркузе, Ф. Фанон и другие, преждевременно. Также замечу, что противопоставление класса наемных работников (пролетариата) и интеллигенции лишено смысла. Интеллигенция – группа, выделенная не по отношению к собственности, а по характеру труда. С точки зрения отношения к собственности большинство работников интеллектуального труда относится к классу наемных работников (пролетариату), а меньшинство – к мелкой и средней буржуазии или к люмпенству. Общности интересов у собственников и несобственников из числа интеллигенции не больше, чем у аналогичных групп работников физического труда.
Революции в классовых обществах были сменами одной формы эксплуатации на другую, проводившимися в интересах одной из групп собственников. Только те могли удовлетворить свое недовольство существующим порядком, создав иной порядок. Эксплуатируемые массы были лишены и по сей день лишены такой возможности. «Чем больше думаешь над историей революций, – справедливо отметил известный историк П. В. Волобуев (1923-1997), – тем больше замечаешь, что народные массы на этот праздник без крайней необходимости не идут» [734]. Не идут, потому что в классовом обществе на праздниках они – чужие.
Участь «низов» в классовом обществе воистину печальна – им остается либо предаваться иллюзиям, либо таскать каштаны из огня для новых хозяев жизни. Время их гегемонии в революции еще не пришло. Однако нельзя забывать, что революции – вехи прогресса в истории человечества. Они не были бесплодны, способствуя, насколько возможно, освобождению человека. Поэтому неверно ни романтическое преклонение перед революциями прошлого, ни их осуждение за недостаточную радикальность. Они были такими, какими могли быть, но это не значит, что никаких других революций в будущем быть не может.
Сказанное может показаться банальностью, но в работах западных социологов не редко утверждение абсолютной неспособности трудящихся классов (которые все чаще именуются «улицей» вместо «народа») к самоуправлению и созиданию. «Революционная мечта о возвращенных народу браздах правления обречена на неудачу… – пишет Р. Дарендорф. – "Народ" не способен пойти по пути перемен дальше разрушительных этапов революции» [735]. Речь идет о переворотах 1989 года, которым автор горячо сочувствует, но которым считает нужным сделать прививку от излишнего демократического оптимизма.