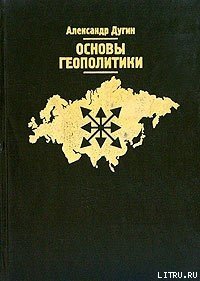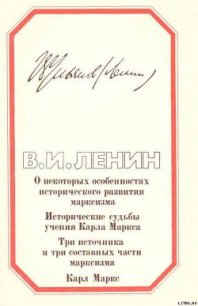Четвертая политическая теория - Дугин Александр Гельевич (читаем книги онлайн бесплатно без регистрации .TXT) 📗
За что репрессируют? Четыре главные причины
Итак, против чего конкретно использует «русский Левиафан», государство как таковое, свой репрессивный аппарат?
Можно выделить различные по количеству и качеству критерии, мы же остановимся на четырех, представляющихся нам наиболее существенными и выразительными.
1. Инакомыслие, открытая или тайная приверженность системе взглядов, существенно отличающихся от тех, которые приняты в качестве официальной идеологии или противоположных ей.
Карательные меры против инакомыслящих необходимы «Левиафану» как инструмент сохранения устойчивости, преемственности и надежного функционирования власти. Инакомыслие, нонконформизм всегда ставят под сомнение оправданность идеологической системы, на которой власть основывается, а следовательно, служат питательной средой для настроений, противостоящих этой власти. Инакомыслие подрывает фундамент самого акта властвования, независимо от того, против чего конкретно оно направлено.
Инакомыслие определяется в зависимости от официальной идеологической установки. Сама она может меняться, следовательно, изменятся и критерии инакомыслия. Приоритетной целью репрессий становятся такие формы инакомыслия, которые имеют «революционный» характер и опровергают основные моменты правящей идеологии.
В русской истории наиболее ярким примерами тому служат староверы и сектанты (начиная со второй половины XVI в.), революционные демократы, социалисты и народники во второй половине XIX — начале XX в., диссиденты советского времени. Здесь налицо и ясная идейная платформа власти, самого «Левиафана», и последовательное отвержение ее с предложением иной, альтернативной со стороны нонконформистских групп инакомыслящих.
В такой ситуации «русский Левиафан» действовал жестко и часто безжалостно, используя репрессивные средства для подавления внутреннего врага и устрашения населения, которое могло бы теоретически проникнуться к врагу симпатией и проявить внимание к его логике.
2. Бунт, своеволие, нежелание подчиняться установленному порядку.
Эта черта присуща человеческой психологии и является константой русской политической истории. Отдельный человек или какая-то группа или категория людей, подчас целый этнос, в какой-то момент осознают невозможность дальнейшего существования в рамках «Левиафана» и проявляют открытое неповиновение. Это неповиновение может выражаться в открытом восстании, в бунте, в захвате и разграблении имущества представителей государства или привилегированных слоев, а также в бегстве из-под юрисдикции государства в относительно свободные зоны — территории на окраинах страны.
Яркие проявления такой ситуации, основанной на своеволии и отторжении высших инстанций, мы видим в истории русских бунтов, в возникновении казачества, в отрядах разбойников — «разбойных людей».
Бунтарь отличается от инакомыслящего тем, что отвергает сам отчужденный порядок «Левиафана», сам механизм абстрагированной власти, а не только его идеологию или религиозную платформу. Восставший отказывает «Левиафану» как механизму «объективных репрессий», власти как объективности в праве на существование и нередко предлагает свои формы власти, суда и справедливости, основанные либо на общинном консенсусе, либо на прозрачной субъективности конкретной и близкой личности — вожака, атамана, вождя, предводителя.
Репрессивная система в таком коллективе восставших может быть не менее, если не более, жесткой, но сам принцип внушения страха и логика репрессий здесь в корне отличны. «Левиафан» карает от имени объективной необходимости, которая по определению превышает уровень компетентности простых граждан. Он внушает страх ради абстрактного порядка, выступая в качестве механической функции, действующей с настойчивой фатальностью независимо от каких-либо факторов. «Левиафан» исходит из нормативов абстрактной рациональности, никогда не совпадающей с отдельной или групповой рациональностью. В этом он представляет собой противоположность воле, и страх, внушаемый им, радикально отличен от того, который привносит суд мира (общины), казачьего круга или даже бандитского главаря.
Несправедливость репрессий возможна в самых разных ситуациях, но от лица «Левиафана» критерий несправедливости или справедливости вторичен — во внушении страха важна сама способность устрашить, осуществить наказание как факт. Бунт направлен именно против этого, а не против несправедливости власти или жестокости устрашающих репрессий. Он целит в саму стихию «Левиафана» как легитимизированного и рационального террора, противопоставляя ему сплошь и рядом террор нелигитимизированный и нерациональный. Бунтарь стремится перевернуть пропорции, из объекта страха со стороны «Левиафана» он становится субъектом страха, иначе говоря, тем, кто этот страх внушает.
Восстающий на «Левиафана», как Персей, сражающийся с Медузой Горгоной, ставит между собой и властью отполированный щит, который отражает волну страха, исходящую от государства, и направляет ее на него самого. Теперь уже он, в свою очередь, — как предводитель разбойников или вольных людей — внушает страх добропорядочным гражданам.
Эта игра с силами страха иногда может обретать политическое измерение. Яркий пример такой диалектики мы видим в недавних событиях в Чечне. Федеральный центр, принуждая чеченцев оставаться в составе России и подчиняться ее законам, использует инструмент устрашения. И воспринимается населением Чечни именно в подобном качестве. Но вместе с тем сами чеченцы, по праву восставших, сами становятся символами, внушающими страх, — вначале «мафией», «бандитами», а позже «террористами». Аналогичным образом устрашали добропорядочных граждан дореволюционной России разбойники, а также казацкие формирования.
3. Заговор, интриги, призванные свергнуть правящего царя, вождя или политическую группировку.
«Левиафан» как цельная реальность в случае заговора особенно не страдает, поскольку чаще всего сам механизм репрессий и структура властвования сохраняются в прежнем виде. Следовательно, заговор не представляет собой угрозы всей системе, но лишь конкретным властным группировкам и отдельной личности. Однако сама возможность заговора часто сильно влияет на психологию правителя или правящей группировки, устрашает их, внушает параноидальные комплексы, манию преследования, что иногда приводит к экстраполяции страха вовне. Ужас власти перед заговорами порождает волну репрессий против заговорщиков — реальных или мнимых. Так рождается очень важное для русской государственности и русской политики понятие — «измена».
«Левиафан» основан на принципе лояльности, преданности, в котором системный и личный факторы переплетаются. На самом деле понятие «преданности» в строгом понимании «Левиафана» отсутствует, поскольку эта структура призвана воплощать в себе внеличностный, отвлеченный, рационально-механический комплекс. Но в конкретной практике, и особенно в истории «русского Левиафана», тема личности правителя и преданности ему персонально проецируется с нижних этажей вольных органических иерархий военных дружин, казацких отрядов или разбойных шаек на высшие ступени. Возникает смешение власти и государства как безличного механизма и как организации, создаваемой по признаку личной преданности.
Заговор служит в этой системе фокусом всей конструкции. В холодной логике «Левиафана» нет места заговору в чистом виде. Он рождается тогда, когда верхние уровни государства начинают отождествляться с конкретной персоной или группой людей. В этом случае рождается настоящее цунами параноидальных состояний, в цепи которых реальные заговоры перемежаются с мнимыми, а карательные меры против конкретных заговорщиков перерастают в масштабный и бесцельный террор. Такие примеры мы видим в эпоху второй половины царствования Ивана IV или при Сталине. Тонка игра в самом сердце «Левиафана». Отождествления/разотождествления механической природы государства как репрессивного аппарата и сильной личности вождя порождают особую форму запугивания, которая проецируется на широкие слои населения, даже по своему статусу никак не способные принимать серьезного участия в «измене» — хотя бы в силу своей удаленности от центра власти. И тем не менее фактор «измены», «заговора» в чистом виде оказывается одним из интенсивных моментов политического воплощения страха.