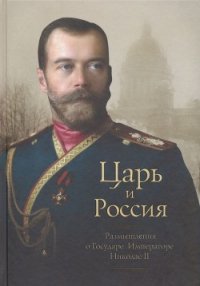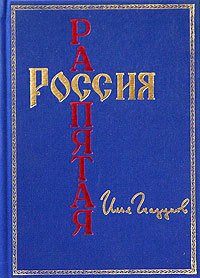Русская апатия. Имеет ли Россия будущее - Ципко Александр Сергеевич (читать книги регистрация TXT) 📗
Но ведь на самом деле в условиях глобального, взаимосвязанного мира, в условиях современной цивилизации подобная система управления страной, когда никто и ничто не в состоянии сдержать, оспорить решение «умелых рук» Путина, опасна. А что будет со всеми нами, если его «умелые руки» устанут или начнут делать то, что противоречит здравому смыслу, интересам страны? Вообще, на что я обращал внимание в своих статьях в «НГ», это страшно, несправедливо, античеловечно, что жизнь, будущее миллионов людей стали целиком зависеть от склада ума, души всего одного, к тому же, как он сам недавно говорил, случайно оказавшегося у власти человека. Буду справедлив. Презумпция невиновности применима к Путину как к любому человеку. Я верю, что он патриот и любит Россию. Но всегда ли у него хватает воли, души, чтобы отделить свои собственные, несомненно честолюбивые интересы от долговременных, стратегических интересов России?
При подобной политической системе даже задачи сохранения политической стабильности, что несомненно важно до сих пор, нельзя будет долго решать. Ума много не надо, чтобы понимать, что в обществе, в стране, где чаще всего успех, карьерный успех и собственное благосостояние связаны прежде всего с близостью к преемнику Ельцина или родство с его ближайшим окружением, или с бывшей работой в ФСО, ФСБ, а не с личными профессиональными достижениями, с особыми, выдающимися качествами и навыками, на самом деле невозможен экономический рост. При подобной кадровой политике наша и без того низкая во всех отношениях конкурентоспособность будет только понижаться. При такой кадровой политике будут умирать зачатки гражданского общества.
И здесь глубинное противоречие нынешней посткрымской ситуации, противоречие, которое я ощущаю как многие, уходящие, как я в последнее время, во внутреннюю эмиграцию в России. Легче тем, кто предпочел внешнюю эмиграцию внутренней, кто, как выясняется, не сильно привязан к России. В СССР имел возможность предпочесть внешнюю эмиграцию внутренней только обладатель дефекта по «пятому пункту» анкеты. Да и потом, как выяснилось после 1991 года, внешняя эмиграция не избавила их от переживаний и мыслей, характерных для внутренней эмиграции. Еще в начале нулевых социолог Володя Шляпентох, который покинул СССР в 1970-е, приезжал в Москву, на квартире родственников своей жены на Зоологической улице устраивал встречу своих бывших коллег, друзей, где обсуждались до глубокой ночи судьбы уже новой, путинской России.
Душа шестидесятников навсегда, до смерти была связана с их Родиной, с СССР, с Россией. И я не знаю исключений из этого правила. Но как выяснилось сейчас, внутренняя эмиграция в СССР обладала большим оптимизмом, чем внутренняя эмиграция в нынешней России, свободной все-таки во многих отношениях. После возвращения из Польши в 1981 году меня, как свидетеля и в каком-то смысле участника событий, связанных с «Солидарностью», приглашали на «чаепития» на кухне в разные собрания думающей интеллигенции Москвы. Но, как я помню, больше всего меня мучили вопросами наши именитые социологи – Левада, Грушин, Шубкин, – собравшиеся для встречи на квартире Лени Гордона весной 1981 года. И сколько было надежды в их умных глазах, активного интереса к будущему, надежды, что советской системе приходит конец. А сейчас на что надеяться? Революции, самые демократические, как выясняется, не прибавляют нам ни разума, ни уважения к свободе, ни сознания самоценности человеческой жизни.
Глубинное противоречие, которое сидит в моей душе и которое на самом деле мучает меня, о чем свидетельствует моя публицистика последних лет, представленная в этой книге, состоит в том, что в СССР на самом деле было куда больше оснований для глубинного пессимизма, чем сейчас, но, тем не менее, одновременно и веры в будущее России, в то, что она станет более разумной, заботливой к русскому народу, избавит нас наконец от вечной нищеты, вечной неустроенности быта, традиционной русской дури, было куда больше, чем сейчас. Лично меня как мальчика, проведшего все свое детство и юность на огороде маминого отца, деда Еремея Ципко, на огороде, которым моя семья добывала средства на пропитание, как это не покажется странным, угнетал не столько дефицит свободы, сколько безумие нашей колхозной системы. 30 %, иногда и больше урожая погибало на всем протяжении советской власти, для которой самой большой бедой был урожайный год: не хватало рук, чтобы убрать урожай, складских помещений, чтобы его хранить и т. д. В техникуме, во второй половине 1950-х, когда нас, пацанов, вывозили в колхозы Одесской области собирать початки кукурузы, я начал осознавать изначальную противоестественность советского колхозного строя. Мы уезжали из деревни на учебу в Одессу уже в середине октября, начинаются дожди, но значительная часть урожая остается в поле и мокнет так до первых морозов, пока не погибнет. Сами селяне для себя, для своих хозяйств убрали бы урожай за несколько дней, работали бы даже по ночам. Но, как известно, даже при Хрущеве председателя колхоза, который разрешил бы селянам разносить по домам погибающее колхозное добро, посадили бы как минимум на пять лет. Кстати, я с 8 лет на коленях пропалывал дедушкины помидоры от сорняков, и поэтому убирал за смену в колхозе в три раза больше кукурузы, чем мои совсем городские однокурсники. Но делал это не для того, чтобы стать «передовиком производства», а потому что всегда душа болела при виде погибающего урожая, погибающего труда человека. Мне до сих пор больно, когда я вижу погибающий урожай. Наверное моя крестьянская наследственность сильнее военной и чиновничьей. За что, конечно, мои однокурсники меня, «очень сознательного», недолюбливали, к тому же всегда, где бы я ни учился, я был или старостой или секретарем партийной организации. Особенно досталось моим однокурсникам, когда нас, студентов первого курса философского факультета, вывезли убирать погибающую картошку в село Курапово Нарофоминского района Московской области.
Таких кричащих абсурдов, как колхозная система, в советской системе было заложено множество. И я, как человек, сформировавшийся не просто в городе, а в Одессе, где главной идеологией всегда был здравый смысл, где бабушки нам говорили, что самое позорное в жизни – быть дураком или «идиотом», всегда видел, с юности остро реагировал на абсурды и советской системы и советской истории. Инженер в конструкторском бюро одесского завода «Красная гвардия», куда меня распределили после техникума, получал всего 120 рублей, а в моем литейном цеху формовщик зарабатывали по 200, а иногда и по 300 рублей. Уже позже, будучи студентом философского факультета МГУ, я осознал, что этот абсурд идет от наследства классового подхода гражданской войны, когда во время военного коммунизма преподаватели и профессора Московского или Петербургского университетов, как «социально неполноценные люди», получали пайку хлеба в два раза меньше, чем рабочий-грузчик.
Бесконечные разговоры о преимуществах социализма над капитализмом, но при этом извечный, мучающий людей дефицит, «колбасные электрички» в Москву. На самом деле в СССР люди существовали только для того, чтобы произвести вооружение необходимое для сохранения «завоеваний Октября». Я уже не говорю о политических маразмах советской системы, об аморализме марксизма, обо всем том, что открылось мне после погружения (опять всей душой) в русскую религиозную философию начала ХХ века, в «Вехи», в доступные для нас, студентов философского факультета МГУ дореволюционные труды Николая Бердяева, Петра Струве, Михаила Туган-Барановского и т. д.
Но этот пессимизм, идущий от кричащих абсурдов советской системы и советской идеологии, пессимизм, который был рожден моим наверное не по возрасту развитым здравым смыслом, легко заглушался верой в то, что стоит избавиться от оков советской системы, и все будет у нас «как у людей», как на Западе. Крестьяне, ставшие фермерами, начнут также усердно работать, как они в советское время работали на своих так называемых «приусадебных участках». Свободные от советской системы граждане начнут избирать во власть самых умных, профессиональных, успешных людей. И т. д. и т. п.