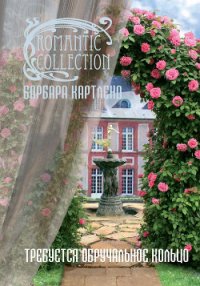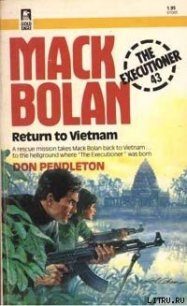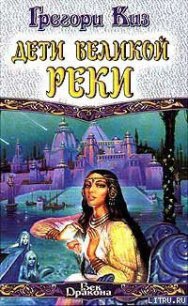Все, что было у нас - Филиппенко Анатолий Викторович (книга жизни .TXT) 📗
Грабили 'Американ Эксчейндж'. Запомнилось, как какой-то парень поднял упаковку хлопьев 'Келлогг' на десять коробок и размахивал ею. Американские деньги они швыряли в воздух... Совсем обезумели... Полный хаос. Мы старались в первую очередь вывозить раненых. Их складывали в старых таких санитарных машинах. Беженцы прибывали не только с Севера, но и из Дельты. Мы стремились вывозить в первую очередь раненых, и многих из них вывезти просто не могли.
Каждый раз, когда мы совершали посадку, появлялась группа морпехов, которые прикрывали площадку, пока мы пытались загружать в первую очередь раненых, но иногда они просто ничего не соображали. Им было приказано стрелять в тех случаях, когда они не смогут поддерживать порядок. Стреляли они в основном поверх голов. Я не видел, чтобы хоть кто-то из морпехов застрелил мирного жителя. Морпехи образовали круговую оборону и были готовы встретить противника огнём, но увидеть бойцов АСВ было невозможно, как и всегда на той войне. Бежали солдаты южно-вьетнамской армии, они прибывали, обгоняли мирных жителей, стреляли в мирных жителей, постоянно пытались выбраться оттуда первыми. Лучшее описание происходившего - 'каждый за себя'. Беременные женщины начинали рожать прямо там, на площадке этой чёртовой. Я принял роды прямо в вертолёте. И на кораблях ещё двоих. С ума сойти.
В конце концов на борту 'Мидуэя' оказалось три тысячи мирных жителей. Мы сняли с корабля все наши эскадрильи, потому что они были там для ведения наступательных действий. Мирные жители находились там, где раньше были эскадрильи. Люди спали на полу, по всей палубе. Само собой, им было неизвестно, что такое туалет. Да уж, народу там было полным-полно. Поэтому мы по очереди совершали обходы, и, если кто-нибудь блевал, или у кого-нибудь обнаруживались понос или глисты, мы оказывали медицинскую помощь.
30 апреля Сайгон пал. Южный Вьетнам пал. Вице-президент Ки прилетел на 'Мидуэй' на личной 'Цессне'. Ки имел при себе несметное количество золотых слитков. У многих подобных деятелей, некоторые из которых занимали высокие посты в южновьетнамской армии и так далее, было много американских денег. Когда мирные жители прибывали на борт, мы всё у них конфисковали. Там фунтами лежал чистый героин, фунтами лежала отличная марихуана, которую мне страшно хотелось попробовать. У людей были сигнальные фейерверки. Мы находили оружие. Пришлось выбросить кучу рыбных консервов. Много случаев лихорадки, много малярийных больных. В общем, набилось там у нас три тысячи человек. Больше мы ничего сделать не могли. Мы круглосуточно дежурили в лазарете, где лежали пара детишек с температурой под 140 градусов [40 градусов по Цельсию]. У нас там сидел переводчик, и многие семьи держались рядом с ним. Мы всё паковали и паковали трупы в мешки. А люди по-прежнему прибывали из Сайгона в лодчонках.
Вьетнамцам было страшно. Надо поставить себя на их место - дом оставлен, куда едем - непонятно, что будет дальше - тоже. Они вели себя очень тихо, будучи почти в шоковом состоянии. Мы их кормили, через переводчиков говорили им, что делать, и я считаю, что переводчики нам очень помогли. Были у нас комендор-сержанты, морпехи-ветераны, которые знали язык. Я знал самое необходимое, мог сказать лишь 'что у вас болит?' или 'мне нужно это', или 'мне нужно то'. Они в основном вели себя спокойно, спали на ангарной палубе. Обращение с ними было очень хорошее. Они были, я бы сказал, в шоковом состоянии - просто из-за паники, из-за напряжённости пяти-десяти дней, проведённых там. Когда у меня самого начались неприятности с нервами, я ведь как думал: 'Да в бога-душу-мать, что ж такое?' Столько времени адреналин поступает в кровь, а потом всё прекращается. Война кончилась, и вдруг всё как отрезало. 'Ладно', говоришь, но адреналин всё выделяется.
Рыдал я до усрачки. У меня и слёз уже не осталось. Срываться я начал в апреле 1977 года. Продолжалось это два года. Со мною это происходило, потому что не мог я больше быть солдатом. Я всё ещё был солдат, твою мать. Я уволился с флота в июне 76-го, но продолжал вести себя как солдат. Да, наверное, и до сих пор в чём-то так себя веду. Я ведь сплю до сих пор вполглаза. И просыпаюсь от кошмаров, когда мне снится, как в меня стреляют, что я смотрю на то, как убивают людей, и сам во всём участвую. Вообще-то говоря, как раз в это время года - на рождественских праздниках - это случается особенно часто. Жена моя об этом знает. Иногда она чувствует себя беспомощной, потому что не знает, что при этом делать. Я страшно расстраиваюсь, и мне надо выплакаться и выговориться. Как начну, так продолжаю часа три-четыре. Сил у меня совсем уж не осталось. Где бы я ни был, мне надо выплакаться, чтобы уснуть, или мне надо уйти из дома и побыть одному. Люди не знают, что делать. Жена не знает. Я говорю ей: 'Просто будь здесь, и лучше ты ничего сделать не сможешь'. Не понимает. Разум мой незрел. Как тогда не был, так и сейчас, и не уложится в нём никогда понятие 'убийство'.
Тупая такая боль, понимаешь? Просто куча знаний, которые я, наверное, приобрёл, и, по-моему, благодаря которым повзрослел. И надо мне в глубине души с этой своей зрелостью разбираться. Я страшно быстро повзрослел. Страшно быстро. Такое впечатление, что в жизни моей есть целый кусок, который мне непонятен, и мне хотелось бы найти этот кусок, потому что я знаю, что это важно. У меня и чувство гордости определённое есть, потому что как санитар я был чертовски хорош - тут тоже не всё ладно. О многих случаях я думаю, что там моя вина, а там нет моей вины - винить не за что. Реально существуют реальные эмоции. Я ещё недавний ветеран, мне и лет-то немного - мне двадцать пять, я только что стал гражданским. А там осталось много всего, от чего я пока далеко не ушёл. Многое в той системе меня ничуть не раздражало. Но знакомые говорят мне: 'Стив, забудь о том. Всё кончилось'. Вот чего мне не надо, так это жалости. Чего мне не надо, так это чтобы кто-нибудь меня жалел.
Мать сказала моему брату: 'Не трогай Стива, он так изменился'. Это было после моего первого срока в Наме. Наверное, я изменился, но сам о том не знал. Перемены в себе замечаешь в последнюю очередь. А ещё ведь и по головке тебя никто не гладит, парадов не устраивают, только плюют в тебя, не понимают и обвиняют - иногда я это ощущаю. Может, я и делал что-то не так.
Люди хотят, чтоб я зарыл в землю свои воспоминания. А я не могу зарыть. Я ведь там что-то узнал, и не знаю точно, что. Но знаю, что это повлияло на меня капитально. И, думаю, повлияло по-хорошему, и я действительно повзрослел благодаря этому, потому что я не хочу увидеть такое снова, и мне действительно хочется сделать что-то для людей. Хочется всерьёз попробовать помочь людям справляться с их проблемами.