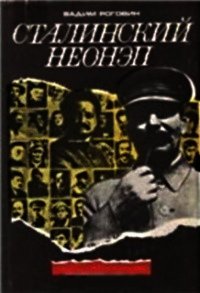1937 - Роговин Вадим Захарович (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Новую вспышку антисемитизма провоцировали московские процессы. Наглядным показателем этого Троцкий считал тот факт, что в сообщении о процессе 16-ти ТАСС опубликовал, помимо политических псевдонимов главных подсудимых, под которыми они были известны массам, и их «истинные» фамилии (подобно тому, как это позднее было сделано в отношении Сергея Седова). «Имена Зиновьева и Каменева известны, казалось бы, гораздо больше, чем имена: Радомысльский и Розенфельд,— писал по этому поводу Троцкий.— Какой другой мотив мог быть у Сталина приводить „настоящие“ имена своих жертв, кроме игры на антисемитских настроениях?» [398]
Наилучшим образом антисемитский аспект московских процессов, как и великой чистки вообще, почувствовали наиболее закоренелые враги большевизма. Писатель Л. Разгон в своих воспоминаниях рассказывает о беседах в Бутырской тюрьме с неким Рощаковским, видным русским аристократом, находившимся в дружеских отношениях с Николаем II. В начале 30-х годов Рощаковскому по его просьбе было разрешено вернуться из эмиграции в Советский Союз, где он был принят с почётом, осыпан привилегиями и даже встречался со Сталиным и Ворошиловым. Будучи арестован в 1937 году, он тем не менее говорил сокамерникам, что чувствует себя счастливым, наблюдая тюрьмы, «набитые коммунистами, этими, как их — коминтерновцами, евреями, всеми политиканами, которые так ничего совершенно не понимают, что же с ними происходит». Рощаковский уверял, что осуществлявшийся Сталиным антибольшевистский геноцид, неразрывно переплетённый с гонениями на «инородцев», предвещает «становление великого русского национального государства с его великими национальными задачами». В этом государстве, заявлял Рощаковский, возродится «государственный антисемитизм. И снова будет процентная норма в университетах, и снова перестанут принимать евреев в ведомство иностранных дел, в полицию, в жандармерию, выключат их из государственной элиты… В цивилизованной Германии малокультурный и малоцивилизованный Гитлер пришёл к власти, сказав: „Германия — для немцев!“… И у нас выкинут этот лозунг: „Россия — для русских!“ Неминуемо, неизбежно! А за этим лозунгом пойдут все, для кого евреи — конкуренты! Пойдут чиновники, профессура, журналисты, литераторы» [399].
В то время такой прогноз мог показаться совершенно фантастическим подавляющему большинству современников, но не Троцкому, который писал, что «в истории не было ещё примера, когда бы реакция после революционного подъёма не сопровождалась разнуздыванием шовинистических страстей, в том числе и антисемитизма» [400]. Подтверждением этого стали итоги великой чистки, в которой доля евреев (как, впрочем, и других «инородцев» — финнов, эстонцев, латышей, поляков) многократно превышала их долю в населении страны. После 1938 года лишь немногие лица еврейской национальности оказались на руководящих постах в государственном и хозяйственном аппарате или в армии. Партийный аппарат, реально управлявший страной, был практически полностью «очищен» от евреев. Неизвестно, имелись ли на этот счёт какие-либо секретные инструкции, но фактом остаётся то, что среди аппаратчиков — «новобранцев 37 года», пришедших на смену прежней большевистской генерации, не было почти ни одного еврея. В ближайшем окружении Сталина сохранились лишь два еврея (Каганович и Мехлис), осуществлявшие антисемитские акции с не меньшим рвением, чем другие преступления сталинской клики.
В своих воспоминаниях С. Аллилуева возводит антисемитизм отца к его борьбе против Троцкого и левой оппозиции вообще. По её мнению, в процессе этой борьбы антисемитизм, насаждаемый Сталиным, возродился «на новой основе» и впоследствии стал воинствующей официальной идеологией, «распространялся вглубь и вширь с быстротой чумы» [401].
Тем не менее и сегодня сохраняются ложные представления о том, что антисемитизм на государственном и бытовом уровне возродился в СССР лишь во второй половине 40-х годов. Как приведённые выше факты, так и суждения Троцкого полностью опровергают эту версию. Если бы сталинская политика не способствовала в предвоенные годы реанимации антисемитских настроений, едва ли бы в Советском Союзе возник сильный всплеск антисемитизма в годы войны. В отличие от оккупированных стран Западной и Центральной Европы, откуда гитлеровцы вывозили евреев в концентрационные лагеря, скрывая замыслы их уничтожения, на оккупированных территориях Советского Союза истребление евреев осуществлялось в открытую, в том числе руками гитлеровских приспешников из местного населения. В те же годы на советской территории наблюдалось возрождение бытового антисемитизма, а в секретных циркулярах ЦК ВКП(б) указывалось на «чрезмерную» долю евреев в сферах науки, культуры и т. д.
Как писала Р. Б. Лерт, одна из немногих участников диссидентского движения 60—80-х годов, выступавших против существовавшего режима с коммунистических позиций, «антисемитизм стал вползать в нашу государственную и партийную политику сначала незаметно — ещё до войны, развернулся во время войны и полным цветом расцвёл в конце 40-х — начале 50-х годов» [402]. Но даже тогда антисемитизм был возведён в ранг государственной политики не открыто, как это произошло в гитлеровской Германии, а под прикрытием лживых лозунгов о борьбе с космополитизмом, сионизмом и т. д. Эта политика, при жизни Сталина осуществлявшаяся в изуверски-террористической форме (дело ЕАК, дело «врачей-убийц» и т. д.), после его смерти сохранилась в той части, которая касалась кадровых ограничений, ограничений на приём евреев в вузы и т. д. Такого рода практические меры сопровождались идеологическими вылазками оголтелых антисемитов, в которых имя Троцкого играло далеко не последнюю роль. Так, в повести Шевцова «Во имя отца и сына», вышедшей в начале 70-х годов, содержались выпады против Троцкого как «агента мирового сионизма», написанные слюной бешеной собаки.
Конечно, Шевцов должен был подчиняться законам сталинистской мимикрии, маскирующей зоологический антисемитизм идеологическими ярлыками. Ради такой мимикрии он вложил свои заветные мысли в уста одного из персонажей повести — еврея Герцовича, представленного в качестве старого большевика, к тому же репрессированного в годы сталинизма. Это призвано было придать убедительность утверждениям автора антисемитского пасквиля, которые высказывались от лица Герцовича: «Сионизм (в отличие от фашизма.— В. Р.) идёт другим путём — скрытым, тайным, проникая во все жизненно-важные ячейки государств всего мира, подтачивая изнутри всё сильное, здоровое, патриотическое, прибирая к рукам, захватывая все главные позиции административной, экономической и духовной жизни той или иной страны. Как фашисты, так и сионисты люто ненавидят марксизм-ленинизм и его идеологию, в частности, идеи интернационализма, братства народов, с той лишь разницей, что сион охотно засылал свою агентуру в международное коммунистическое и рабочее движение. Иногда их агентам удавалось пробираться и к руководству компартий. И тут перед Герцовичем всегда вставал образ Иудушки-Троцкого (Бронштейна), которого он считал одним из типичных агентов сионизма, провокатором № 1». Чувствуя, что здесь он чересчур зарывается, Шевцов делал оговорку, что такие мысли представляли «личную точку зрения Арона Марковича, его собственный взгляд и убеждение, быть может, не совпадающее с теоретическими исследованиями философов и социологов» [403].
Далее Шевцов вкладывал в уста Герцовича похвалу Сталину за то, что он «освободил» Советский Союз от Троцкого. Заявляя, что Троцкий «рвался в диктаторы, рассчитывая руками желторотых юнцов разделаться с коммунистами», Герцович прибавлял: «Троцкий расставлял свои кадры в армии. И если б Сталин не разглядел его — что бы было? Кошмар похлеще гитлеризма. Я-то знаю. Пускай там что угодно говорят историки, а я знаю: между сионизмом и троцкизмом дорожка прямёхонькая… На чём они сходились? На жажде владеть миром… Троцкий был сионист и его так называемая партия — прямая ветвь сионизма» [404].
Таким образом, нынешние аргументы «Памяти», «баркашовцев» и других антисемитских клик были высказаны на страницах советской печати двадцать пять лет тому назад. Суждения, близкие тем, которые содержались в повести Шевцова, проникли ныне даже в программу КПРФ, где утверждается, что «носители мелкобуржуазной идеологии (внутри большевистской партии.— В. Р.) рассматривали страну и государственную собственность как „добычу“, подлежащую разделу. Первоначально их стремления прикрывались ложным, троцкистским толкованием интернационального долга Советской России» [405].