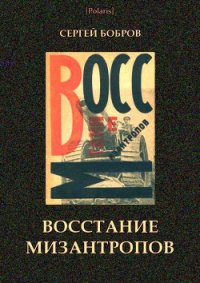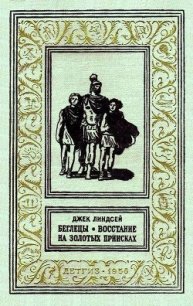Восстание элит и предательство демократии - Лэш Кристофер (е книги TXT) 📗
Что же случилось с традицией, примером которой являются дебаты Дугласа-Линкольна? Скандалы "золотого века" замарали доброе имя политики. Они подтвердили все те худшие подозрения, которые "лучшие люди" питали со времен джексоновской демократии. К 1870-м и 1880-м, плохое мнение о политике стало широко разделяться всеми образованными классами. Мягкие реформаторы – "шишки" для своих противников – требовали профессионализации политики, призванной освободить государственную службу от партийного контроля и заменить политических назначенцев подготовленными экспертами. Даже те, кто отвергал это нововведение, даже они заявляли о своей независимости от всякой партийной системы, как Теодор Рузвельт (чей отказ покинуть республиканскую партию столь разъярил "независимых"), и разделяли общую воодушевленность идеями реформы государственной службы. "Лучшие люди", согласно Рузвельту, должны бороться с продажными политиканами на их собственной территории вместо того, чтобы уходить на обочины политической жизни.
Желание очистить политику от грязи завоевало поддержку в прогрессивную эру. Под руководством Рузвельта, Вудро Вильсона, Роберта Лафоллетта и Уильяма Дженнингса Брайана прогрессисты проповедовали "действенность", "хорошее управление", "беспристрастность", "научный подход" к общественным делам и объявили войну "боссизму". Они нападали на принцип старшинства в Конгрессе, ограничили власть спикера, заменили городских мэров на городских управляющих и передоверили важные государственные функции отдельно назначенным комиссиям, составленным из подготовленных администраторов. Осознав, что политические машины являются, в сущности, организациями по социальному обеспечению, распределяющими рабочие места и другие блага между собственными составляющими, заручаясь их преданностью, прогресси-висты принялись за создание государства, всеобщего благосостояния, которое смогло бы соревноваться с этими машинами. Они начали всеобъемлющие исследования по преступности, пороку, нищете и другим "социальным проблемам". Они заняли ту позицию, что управление это наука, а не искусство. Они наладили прочные связи между правительством и университетом, чтобы обеспечить постоянный приток экспертов и экспертного знания. Но у них нашлось мало места для общественных дебатов. Большинство политических вопросов были слишком сложны, на их взгляд, чтобы быть предоставленными на общественный суд. Они любили противопоставлять научного эксперта оратору, причем последний – это бесполезный пустозвон, чье пустозвонство только смущает общественный ум.
Профессионализм в политике означал профессионализм в журналистике. Связь между ними была проговорена Уолтером Липпма-ном в примечательной серии книг: Свобода и Новости (1920), Общественное Мнение (1922), Фантомное общество (1925). Эти книги заложили основные черты современного журнализма и дали тончайшее логическое обоснование профессиональной объективности. Липпман выставил те мерки, по которым прессу судят до сих пор, – обычно с тем результатом, что ей еще многого недостает.
Для нас, однако, важно не то, приняла ли пресса стандарты Липп-мана, но, прежде всего, как он сам пришел к этим нормам. В 1920 году Липпман и Чарльз Мерц опубликовали длинное эссе в "Нью Рипаблик", исследуя освещение русской революции в американских газетах. Это исследование, теперь забытое, показало, что американские газеты давали своим читателями такой отчёт о событиях революции, который явно был искажен антибольшевистскими предрассудками. Работа Свобода и новости была вызвана к жизни крушением журналистской объективности во время войны, когда газеты сами назначили себя на роль "защитников веры". Итогом этого, согласно Липпману, был "слом механизмов независимого общественного знания". Эта трудность выходила за рамки войны и революции, "высших разрушителей реалистического мышления". Торговля сексом, насилием и "человеческим" интересом — основными продуктами современного массового журнализма – ставила трудные вопросы о будущем демократии. "Все, что утверждали наиболее острые критики демократии, является истинным, если нет постоянного обеспечения правдивыми и относящимися к сути дела новостями".
В Общественном мнении и Фантомном обществе, Липпман, в сущности, дал ответ этим критикам, переопределив демократию. Демократия не требует, чтобы люди в прямом смысле управляли самими собой. При управлении общественный интерес является строго процедурным. Он не доходит до существа тех вопросов, о которых принимаются решения: "общество интересует закон, а не законы; метод закона, а не его содержание". Вопросы о содержании должны решаться знающими администраторами, чей доступ к надежной информации обезопасил бы их от эмоциональных "символов" и "стереотипов", преобладающих в публичных дебатах. Общество неспособно править собой и, на взгляд Липпмана, совершенно не желает делать этого. Но постольку, поскольку устанавливаются неукоснительные правила "честной игры", общество будет радо препоручить управление экспертам — при том условии, конечно, что эксперты смогут обеспечить его товарами, все-возрастающим объемом благ и удобств, столь глубоко отождествляемых с американским образом жизни.
Липпман признавал противоречие между своими стремлениями и воспринятой им от предшественников теорией демократии, согласно которой все граждане должны участвовать в обсуждении общественной политики и играть роль, пускай и косвенную, в принятии решений. Демократическая теория, доказывал он, уходит своими корнями в те общественные условия, которых больше не существует. Она подразумевает "всезнающего гражданина", "мастера на все руки", которого можно найти только в "простом, замкнутом сообществе". В "широком и непредсказуемом окружении" современного мира прежний гражданский идеал устарел. Сложное промышленное общество требует себе правления, осуществляемого определенными государственными лицами, которые непременно станут руководствоваться — поскольку всякая прямая форма демократии сейчас невозможна — либо общественным мнением, либо экспертным знанием, а общественное мнение ненадежно, поскольку его можно объединить лишь лозунгами или "символическими картинками". Недоверие Липпмана к общественному мнению покоилось на эпистемологическом различии между истиной и простым мнением. Истина, как он понимал ее, вырастает из незаинтересованного научного исследования; все остальное – идеология. Масштаб общественных дебатов поэтому должен быть, соответственно, строго ограничен.
В лучшем случае дебаты являются неприятной необходимостью – не самою сущностью демократии, а ее "изначальным недостатком", который возник исключительно благодаря тому, что некогда "точное знание", к сожалению, было еще мало доступно. В идеале же для общественных дебатов не останется вовсе никакого места; обсуждения будут основываться только на "научных стандартах измерения". Наука перерезала "запутанные стереотипы и лозунги", "нити памяти и эмоции", которые держали завязанным в свои узлы "ответственного управляющего".
Роль прессы, как ее видел Липпман, состояла в распространении информации, а не в поощрении споров. Отношение между информацией и спорами является непримиримым, а не взаимодополнительным. Он не считал, что надежная информация является необходимым условием спора; напротив, его точка зрения состояла в том, что информация предотвращает споры, делает их необязательными. Спор это то, что имеет место за отсутствием надежной информации. Липпман забывает, чему его научили (или должны были научить) Уильям Джеймс и Джон Дьюи: что наши поиски надежной информации определяются теми вопросами, которые возникают в спорах о данном ходе дел. И именно отдавая наши предпочтения и устремления на открытое общественное рассмотрение, мы начинаем понимать, что мы знаем и что нам еще предстоит узнать. Пока нам не приходится защищать свои мнения открыто, они остаются мнениями в уничижительном липпмановском смысле этого слова –полусформированными убеждениями, основанными на обрывочных впечатлениях и непроверенных предположениях. Именно сам акт выражения и защиты наших взглядов поднимает их из категории "мнений", придает им оформленность и определенность и дает другим возможность узнать в них выражение и своего опыта. Короче, мы познаем собственные мысли, объясняя себя другим.