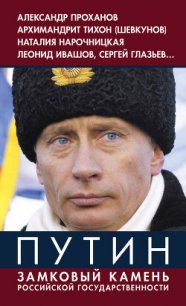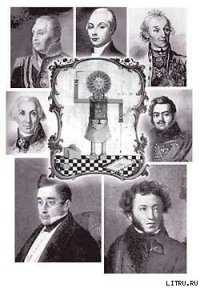История России: конец или новое начало? - Клямкин И. (читаем полную версию книг бесплатно TXT) 📗
Дело в том, что «отцовская» монархическая модель беззащитна перед обрывом династической преемственности. Патриархальная семья воспроизводит себя благодаря тому, что у ее главы есть естественный, «природный» преемник. Прекращение правящей династии при доминировании авторитарно-монархического идеала может сопровождаться культурным шоком и делегитимацией новой верховной власти, как не подлинной, полученной не «природным» путем. После смерти бездетного сына Ивана Грозного Федора Ивановича нового царя пришлось выбирать, что «должно было представляться народной массе не следствием политической необходимости, хотя и печальной, а чем-то похожим на нарушение законов природы: выборный царь был для нее такой же несообразностью, как выборный отец, выборная мать» [82]. Отсюда – феномен русского самозванства как продукт смуты и одновременно подпитывающий ее источник. Феномен, с которым впервые столкнулась Русь Московская и который надолго ее переживет.
Возвращаясь к словам Николая Бердяева, еще раз повторим: отмеченное им парадоксальное сочетание государственного и антигосударственного начал в русском народе связано с тем, что при концентрации государственного начала в одном лице у всех остальных оно не развивается. В «отцовской» модели абстракция общего интереса не может быть освоена; он существует как бы поверх интересов частных и групповых, с ними не пересекаясь и отождествляясь исключительно с фигурой правителя. Это, в свою очередь, не может не сопровождаться поисками идеологического обоснования «отцовских» прав первого лица, легитимирующих именно его возвышение над всеми другими «отцами», и поисками способов трансляции общего интереса от первого лица к тем, кто должен его обслуживать.
Разумеется, главными способами в данной модели выступают сила, принуждение, устрашение. Но само право на использование силы в государстве, в отличие от той же семьи, всегда должно быть санкционировано и идеологически. Посмотрим, как это происходило в Московской Руси.
6.4
Православный царь как языческий тотем
Становление и развитие Московии – это становление и развитие в первом осевом времени. Формирование русской централизованной государственности в значительной степени стало возможно благодаря тому, что абстракция единого христианского Бога, закрепившись в русском сознании, объединила страну общей верой. Обвал же этой государственности, ее падение в смуту были вызваны, не в последнюю очередь, тем, что христианский идеал был изначально деформирован неорганичным соединением с язычеством, не разграничивающим божественное и человеческое, когда речь идет о сакрализации правителей. Однако и само такое соединение не было беспричинным, а уходило корнями в наличную культуру отечественного социума московской эпохи.
За столетия монгольского владычества Русь значительно продвинулась по пути христианизации. Православие стало консолидирующей народной религией, основой русской идентичности. Этому немало способствовала деятельность православной церкви: сотрудничая с татарами и молясь за ордынских ханов, она тем не менее помогала населению сохранить ощущение своей особости и обретать ощущение своей религиозной общности. Кроме того, после получения московскими князьями монгольского ярлыка на великое княжение церковь стала активно и целенаправленно поддерживать их практически во всех действиях. Сам факт, что уже в первой половине XIV века митрополит вместе со своим двором переехал из Владимира (куда еще раньше перебрался из Киева) в Москву, не мог не содействовать ее становлению и укреплению как общерусского центра.
Но эти существенные изменения в осознании религиозной и политической общности не сопровождались столь же глубокими трансформациями культурными. Поэтому они создавали предпосылки для сакрализации государственности в лице ее персонификатора, но были недостаточны для преодоления языческой архаичности самой этой сакрализации.
Христианский культ любви и свободного постижения Бога и его Истины не мог преобразовать повседневный жизненный уклад Московской Руси. Этому препятствовали и уроки жестокости, преподанные монголами. В такой ситуации самодержавный отцовский произвол в семье церковь могла лишь пытаться смягчить, и «Домострой» тому пример. На само же семейное самодержавие она, как мы видели, не покушалась, более того – всемерно его поощряла. Но при этом и по отношению к государству и его устройству в церкви наибольшие шансы на победу имели течения и лица, обосновывавшие необходимость неограниченной самодержавной власти московского государя. В том числе и потому, что запрос на такое обоснование шел от самой власти.
Этот идеологический запрос существенно отличался от аналогичных запросов во времена Киевской Руси. Киевские князья нуждались в христианстве как объединительной религии, призванной сменить многообразные языческие верования подчиненных Рюриковичами племен и заблокировать междоусобные войны за великокняжеский стол (последнее им не удалось). В послемонгольской Руси таких задач перед правителями уже не стояло. Но на месте старых вопросов возникли новые. И главный среди них – вопрос о политико-идеологическом и символическом дистанцировании персонификатора власти от привластной княжеско-боярской элиты при сохранении за ней освященных традицией прав соучастия в принятии государственных решений.
Послемонгольской Руси, как и Руси домонгольской, была неведома абстракция закона как универсального принципа, в соответствии с которым строится государственность и распределяются полномочия между ее отдельными институтами. Упоминавшееся выше узаконивание Иваном Грозным полномочий Боярской думы, осуществленное в экстремальной политической ситуации, было шагом в этом направлении, но продолжения он не получил, а впоследствии сам же Грозный наглядно продемонстрирует, что основной вектор эволюции московской государственности определялся отнюдь не законом. Он определялся противоборством разных интерпретаций абстракции времени, как уходящей в эмпирически нефиксируемую глубь веков традиции, и абстракции вечности, как Бога и его воли, от любых ограничений, включая традицию, не зависимой.
Поначалу – при Иване III – борьба шла в основном за время. Первый «государь всея Руси», чтобы увеличить дистанцию между собой и привластной элитой, жившей воспоминаниями о русской традиции «братской семьи», должен был найти традицию, которая была бы одновременно и русской, и более древней и глубокой, чем русская. Укоренившееся к тому времени на Руси православие и падение за несколько лет до вокняжения Ивана III Византийской империи (1453) такую возможность предоставляли, и московский правитель ею воспользовался.
Женившись на племяннице последнего византийского императора Софье Палеолог, он осуществил своего рода захват чужого времени, превратил его из абстрактного прошлого в конкретное настоящее. Символическое значение этого шага было существенно иным, чем завоевание царевны Анны крестителем Руси киевским князем Владимиром. После того, как Византия пала под турецким натиском, а Русь освободилась из монгольского плена, последняя могла претендовать на роль и миссию преемника Византийской православной империи, а московский государь – на роль и миссию византийских императоров.
Женитьба на Софье Палеолог, заимствование византийского двухглавого орла в качестве герба, обустройство пышного двора на византийский манер и введение соответствующего церемониала – все это были лишь символические детали, наглядно демонстрировавшие общий замысел. Замысел же заключался в заимствовании чужого ради дистанцирования от своего и своих, которые за это свое держались. Если князь Владимир перенимал греческую веру ради укрепления складывавшейся на Руси политической модели, то Иван III перенимал саму византийскую политическую модель, пытаясь приспособить ее к русским условиям. Но византийская императорская система без византийской законности – это не византийская система. Очередные заимствования у греков, соединяясь с отечественной спецификой, сопровождались вызреванием иного, чем у греков, системного качества. Прежнее свое выдавливалось с помощью чужого. Но новое свое не было и простым воспроизведением чужого.