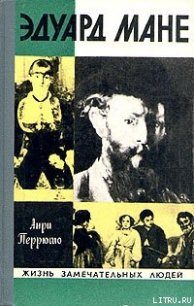Идея государства. Критический опыт истории социальных и политических теорий во Франции со времени ре - Мишель Анри (серия книг TXT) 📗
Если правительство не враг, с какой стати отыскивать идеальную политическую форму, которая должна заменить все существующие? Не видя необходимости восходить к началу гражданского общества, Бентам не считает также нужным делать различие между формами правления и отдавать одной из них исключительное предпочтение перед другими [459].
Лучшая конституция для каждого народа та, к которой он привык. Сохранять существующий строй в силе значит избегать революции; а так как революция – худшее из зол, это значит действительно работать для счастья общества. Политическая свобода в глазах Бентама не составляет столь ценного блага, чтобы ее стоило покупать ценою спокойствия и бесспорного обладания всеми прочими благами. Хорошая администрация, хорошие законы и счастье наибольшего числа людей [460] стоят дороже политической свободы.
Как видно, утилитарный принцип развивается и в своих выводах не раз примыкает к доктринам, наиболее враждебным духу индивидуализма, хотя и хвалится своей прогрессивностью. Мало того что он ставит выше всего и делает главной целью политики счастливую жизнь, он чреват последствиями, угрожающими индивидууму.
Придавая такое значение законодательству, Бентам действительно открывает путь для крайне интенсивного вмешательства государства. Для каждого народа существует общий интерес, а для всех людей, вместе взятых, – интерес общечеловеческий. «Искусство законодателя состоит в том, чтобы, применяя наказания и награды, сделать этот интерес господствующим» [461]. Таким образом, Бентам облекает закон своего рода миссией. Он должен всячески развивать в индивидууме чувство общего интереса. Я хорошо понимаю, что для Бентама этот общий интерес неразрывно связан с личным и составляет только высшую форму последнего. Это ничего не значит: раз на закон возложено преследование этой цели, непонятно, какое место в его системе может занимать свобода.
Таким образом, Бентам то приближается к индивидуализму, то удаляется от него. Он удаляется от него, когда объявляет праздным и совершенно не интересным вопрос о происхождении общества. Он приближается к нему, когда приписывает гражданскому обществу неизменную цель, установленную им априори. Он проповедует уважение к существующим политическим формам и в то же время по своей теории суверенитета, которую развил и закончил Остин [462], является одним из вождей демократического движения. Он повторяет «laisser-faire, laisser-passer» и приглашает государство заботиться о «счастье» наибольшего числа граждан. Наконец, он требует всеобщего голосования, не признавая никакого «права» за членами политического общества. Участие управляемых в управлении у него является только средством для достижения цели, которую он считает выше свободы.
Нам не приходится следить за судьбой идей Бентама в Англии. Значение их огромно: можно сказать, что вся социальная и политическая история этой страны в течение XIX века освещается светом его теорий. Целый ряд избирательных реформ и постоянное усиление функций государства в Англии коренятся в этих теориях. Но радикализм Бентама проник и во французскую мысль. Его аргументы против принципов революции стали у нас ходячими, и он причинил много вреда индивидуализму своим влиянием и на демократическую, и на французскую либеральную школы [463].
II
Не успела разразиться французская революция, как среди массы сочинений на злобу дня, позабытых сейчас же после своего выхода в свет, появилось произведение, которому суждено было оказать сильное и продолжительное влияние на умы: это Размышления о французской революции [464]. Книга Берка часто похожа на памфлет; тем не менее эта книга, полная горечи, ожесточения и несправедливости, если принять во внимание время ее появления, поражает нас проницательностью взглядов и строгостью логики.
Берк скорее политик, чем философ, политик, умеющий найти слабый пункт программы, недостатки учреждения и отдаленные последствия данного факта. Так, в одном из трех Мемуаров, составляющих его Размышления (в мемуаре 1791 года), Берк первый отметил, что французская революция не похожа на обычные политические революции и что она отличается характером и ходом революции религиозной, «всегда сопровождающейся духом энтузиазма и прозелитизма» [465]. Всем известная глава Токвиля [466] является, в сущности, только парафразой этих знаменательных строк.
Берк точно так же показал, что исчезновение всякого различия между личностями и новое распределение территории на департаменты облегчили появление деспотизма. Он высказал это почти одновременно с Мирабо, который писал королю, что стремление Национального Собрания привести к одному уровню и людей, и местные власти «обрадовала бы Ришелье». Как в мелочах, так и во многом крупном Берк отличается необыкновенною проницательностью. И, например, страница, где он указывает, что вследствие нового административного устройства страны, Париж призван играть решающую роль во внутренней истории Франции, не принадлежит ни по своему остроумию, ни по своей смелости к числу редких в его книге [467].
Недоумевали, каким образом тот же самый человек, который так сурово судил о французской революции, мог относиться благожелательно к революции американской и с парламентской трибуны произносить красноречивые панегирики в защиту мятежных колоний. Здесь противоречие только кажущееся. Во имя одних и тех же принципов Берк осуждает намерение французов заново перестроить все социально-политическое здание и желание своих соотечественников наложить невыносимое ярмо на колонии Нового Света. В данном случае Англия сама опиралась на абстрактное право, которого Берк не признавал. «Вопрос, – говорит он в одной из своих знаменитых речей, – для меня заключается не в том, имеете ли вы право делать несчастным принадлежащий вам народ… Я не вхожу в эти метафизические споры о правах. Мне ненавистен самый звук этих слов» [468].
Нападая на революцию с ожесточением, которое иногда равняется ожесточению де Местра [469], Берк судит о ней не с высоты метафизического принципа и тем менее с высоты догмата. Он судит о ней как политик; прибавлю: как политик-теоретик, обладающий известным методом и доктриной и неохотно выносящий противоречия. Конечно, нужно многое приписать стремлению Берка – в котором, впрочем, он признается и сам – изгнать обратно на континент опасные учения, не дать укрепиться идее, что французская революция является подражанием революции 1688 года. Но мы умалили бы значение книги Берка, если бы видели в ней только протест английского эгоизма и английского тщеславия против опасного влияния французских идей. Эта книга особенно ценна и интересна для нас изложенной в ней теорией «политического разума».
Берку одинаково ненавистны и метод, и доктрина деятелей революции. Их метод, по его мнению, имеет три недостатка: он априорен [470], сводит все на индивидуальный разум [471] и применяет слишком упрощенные построения [472]. Доктрина искупает эти недостатки метода ценою трех основных ошибок. Общественный договор, гипотеза крайне упрощенная, не соответствует сложности объясняемых ею фактов [473]. Теория народного верховенства, идущая по прямой линии от культа разума, находится в непримиримом противоречии с самым понятием правительства и общественного порядка [474]. Теория прав человека, логическое следствие абстрактной концепции человеческой природы, представляет собою «мину», способную взорвать всякое политическое учреждение [475].