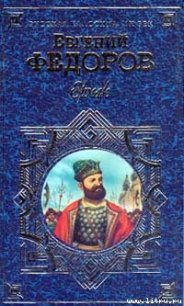К Сибири на Вы - Городников Сергей (бесплатные серии книг .txt) 📗
Кроме того, пока имели место восточно–татарские ханские образования, проблемы убегающих от помещиков крестьян, беглых преступников касались в основном только Дона и иных мест средоточия южного казачества. Эти проблемы Московское государство худо–бедно научилось и привыкло утрясать и решать разными способами и средствами. Прежде московские чиновники мало ломали головы заботами о беглых за Поволжье, потому что русские люди редко продвигались на Восток. Чаще всего на Восток попадали при татарском пленении, и бежали обратно из неволи, так как там положение русских людей было гораздо хуже, чем при крепостном праве в московских землях. И такое отношение к восточным ханствам было в основе народного мировосприятия Московской Руси. Ермак, как будто прорвал плотину, открыл возможность для бегства крепостных на восточном направлении, к чему государство было не готово.
Ничего подобного не могло быть, и не было в Западной Европе после открытия Америки. Там надо было найти корабль, проникнуть на него, — а число кораблей было ограниченным и известным, даже тех, что были у пиратов. На Западе Европы переселениями колонистов за океан занимались сами государства, отправляя в колонии чаще преступников и вообще людей избыточных и мало нужных. У нас же происходило прямо обратное. Всё самое здоровое и самое энергичное разгибало спину, с удивлением и изумлением осматривалось, не видело больше восточных ханств и… бежало, пропадало на волю. И на какую волю! Бежали в Сибирь, до которой добирались, как попало, чаще просто ногами. У нас туда уходили и избывали вопреки государству, вопреки его стремлению удержать крепостных крестьян на землях служилых дворян и помещиков. Ибо, если удержать их не удавалось, то какой смысл дворянину служить царю и государству?!
На Поволжье, где ещё недавно было опасное порубежье, воцарились смута и беспорядок в государственных отношениях, — смута в умах, которая, по–видимому, подхватила, увлекла и инородное туземное население. Представляется чрезвычайно любопытным, что и в самые критические периоды Великой Смуты не возникло сколь‑нибудь значительных и опасных движений по возрождению только–только повергнутых ханств.
VI.
Именно в такой исторической обстановке начал зарождаться и набирать силу приоритет Западной политики Московского государства.
У нас сложилась, обросла пышными академическими ветвлениями, стала чуть ли ни абсолютной истиной “из учебника” точка зрения, что Ливонская война была нужна Ивану Грозному и Московской Руси ради прорыва к Балтийским портам, в полном соответствии с поддерживаемой марксизмом концепцией: “Политика есть концентрированное выражение экономики”, — концепцией вообще‑то не бесспорной, поскольку однозначность такого утверждения не в состоянии объяснить многих исторических явлений. Скорее это объяснение есть попытка выдать одну из целей за политическую первопричину.
Не следует забывать, Москва несколько веков не знала слабой великокняжеской власти. Слабую верховную власть может позволить себе государство с сильным бюрократическим, военным аппаратом, или, по крайней мере, сложившейся иерархией рационального общественного сознания, бюргерского общественного сознания. А Русь вела борьбу за государственное выживание в весьма архаичных формах, когда роль первого лица власти, Великого князя была очень значимой. Эта борьба выковывала прекрасных прагматиков в политике, и Иван Грозный был не последним из них.
Даже Пётр Великий с его молодостью и энергичным деятельным характером, беспрецедентными до него в русской истории цельностью политических намерений и волей, окружённый сподвижниками и имея за спиной сложившиеся в народе после Великой Смуты и унизительной иностранной интервенции представления о неизбежности столкновения с Западом, опираясь на моральный дух оскорблённого народного и государственного достоинства, при благоприятнейшей международной обстановке, какая сложилась в результате войн за Испанское наследство, — даже он решился на войну за только лишь прорыв к берегам Невы не сразу и ставил вначале очень скромные цели. О какой же победоносной войне могла идти речь за век до него, когда государство переживало внутренний кризис?
Видится лишь одна логически убедительная причина Ливонской войны. Именно потому, что царю и виделась и чувствовалась государственная смертельная болезнь, он вынужден был броситься в ожесточённую и изматывающую, обречённую на поражение Большую войну — разом и с Польшей, и с Швецией. В его положении это был единственный шанс как‑то контролировать события. Реформы государственного управления провести не удалось. Смута в умах феодального дворянства, разброд и высокомерие боярства перед лицом царской власти разлагали последние остатки политического государственного порядка. Народ выказывал всё большее недовольство и неповиновение. Надо было возвращаться к старым и проверенным традициям организации отношений власти с низовыми массами населения, но для этого надо было восстановить патерналистское согласие с русским народом на базе самодержавных традиций единства перед лицом внешней, смертельной для народного духа опасности. Нужна была стратегическая линия на осознание образа этой опасности, образа враждебного и сильнейшего.
Едва ли не основной трудностью на этом пути оказывалось крушение Восточной политики. Веками народ почитал татарских ханов самым жестоким и сильным врагом, не раз сжигавшим главные русские города, в их числе и самую Москву. И неожиданно лёгкий, как представлялось народу, разгром одного за другим трёх ханств неизбежно должен был породить волну шапкозакидательства и в отношении к западным соседям, волну пренебрежения западными государствами и исходящей от них опасностью. Кажущееся безумие Ливонской войны стало необходимым лекарством против такового разложения самобытного народно–государственного сознания. В наше время столь же безумной, на первый взгляд, предстаёт и ирано–иракская война. Но у каждого государственного “безумия” есть внутренняя логика, и пока задачи её не будут разрешены, война порой становится единственным средством выиграть историческое время и осуществить восстановление государственного инстинкта самосохранения у государствообразующего народа и правящего класса.
VII.
Внутренняя логика Ливонской войны нашла своё разрешение лишь после Великой Смуты, десятилетия спустя после смерти Грозного царя. В последнюю пору царствования Ивану Грозному уже не удавалось подчинить хаос событий иначе, чем став подобно этим событиям безумным и самому, — однако безумию хаоса народного и государственного саморазрушения он противопоставил безумие удержания порядка любой ценой, пусть даже Великим Ужасом и Страхом. Борис Годунов продолжил его политику восстановления порядка политическим террором против безрассудного эгоизма в среде правящей верхушки, но при этом стал душить и то, что сделал Иван Грозный положительного, прогрессивного.
Спасли Московское государство не цари и не боярская знать. Спас его сам народ и новый, уже собственно народный дух России, который осознал самоё себя в результате Великой Смуты и разнузданной иностранной интервенции, созрев до признания необходимости дальнейшего становления не московского, но великорусского государственного порядка, начав восстанавливать его снизу, через российское соборное представительство. Пережив великие жертвы в Великой Смуте, пройдя через унижения при высокомерной польско–шведской интервенции, русский народ выстрадал право стать собственно народом, выстрадал право на своё собственное государственное сознание, нашёл в самом себе силы восстановить status‑quo самобытной культуры и государственности.
Однако status‑quo было только кажущимся, только внешним, так как на сцену общественной и политической жизни ворвался народ как политическое явление. Весь ХVII век свидетельство этому. Да и не могло быть иначе, если каждый несогласный с деяниями власти мог бежать, и сгинуть на Восток за Каменный Пояс, направясь в Сибирь куда глаза глядят, куда не доберутся до него государевы чиновник и воевода. И не просто бежать, а выбирать: предпочтительнее ли стать вольным землепроходцем–хлебопашцем или объединяться в казачьи, склонные к разбою ватаги. Без особого преувеличения можно утверждать, что в этот век государство существовало на основе некоего не писанного и негласно признаваемого Общественного Договора, сформировавшего своеобразные и самобытные отношения доверия между народом и государственной властью.