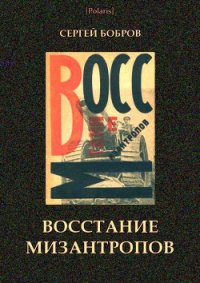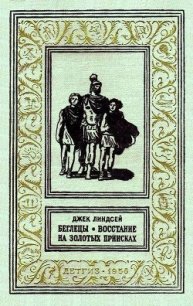Восстание элит и предательство демократии - Лэш Кристофер (е книги TXT) 📗
Все это не сулит ничего хорошего демократии, но виды на будущее делаются еще мрачнее, если мы рассмотрим вырождение общественной дискуссии. Демократия требует живого обмена идеями и мнениями. Идеи, так же как и собственность, должны распределяться как можно более широко. Однако многие из "лучших людей", как они думают о себе, всегда скептически относились к потенциальной способности рядовых граждан охватить сложный предмет и вынести о нем критическое суждение. Демократическая дискуссия, с их точки зрения, слишком легко вырождается в соревнование крикунов, в котором голос рассудка лишь изредко оказывается услышанным.
Хорас Манн, умудренный в столь многих вещах, не сумел понять, что политическая и религиозная полемика имеет воспитательное значение сама по себе, и поэтому попытался исключить вызывающие разногласия вопросы из программы начальной школы (гл. 8, Начальные школы). Его горячее желание избежать сектантских раздоров вполне понятно, но как раз наследие, им оставленное, может помочь объяснить убаюкивающее, выхолощенное, отупляющее качество нынешнего государственного образования.
Некоторым образом схожие оговорки в признании за обыкновенными мужчинами и женщинами способности к рассуждению оказали воздействие и на формирование американского журнализма (глава 9, Утраченное искусство спора). По мнению Уолтера Липп-мана, одного из пионеров современного журнализма, "всеведущий гражданин" в век специализации оказался анахронизмом. В любом случае, большинство граждан, полагает он, весьма мало заботит сущность государственной политики. Назначение журналистики не в том, чтобы поощрять общественную дискуссию, а в том, чтобы снабжать экспертов информацией, которой можно было бы обосновывать разумные решения. Общественное мнение, утверждает Липпман, – в противовес Джону Дьюи и другим ветеранам прогрессистского движения, – это слабая былинка. Оно формируется больше эмоцией, чем рассудочным суждением. Само понятие какой-то общественности (public) вызывало подозрение. Общественность, идеализируемая прогрессистами, общественность, способная к разумному руководству общественными делами, – "фантом". Она существовала лишь в воображении сентиментальных демократов. "Общественный интерес к проблеме – писал Липпман – сводится к одному: тому, что должны быть правила… Общественность интересует закон, не законность; закон как способ действия, не его суть". Вопросы о сущности можно спокойно оставить экспертам, чей доступ к научному знанию создает у них иммунитет против эмоциональных "символов" и "стереотипов", которые подчиняют себе общественную дискуссию.
Утверждение Липпмана строилось на резком разграничении мнения и науки. Лишь последняя, полагал он, может претендовать на объективность. Мнение, с другой стороны, опирается на общие впечатления, предрассудки и принимает желаемое за действительное. Этот культ специализации оказал решающее влияние на развитие современной журналистики. Газеты могли бы служить приложениями к спорам в городских собраниях. Вместо этого они воспринялипревратный идеал объективности и свою задачу определили в том, чтобы пускать в оборот надежную информацию – то есть информацию такого рода, которая тяготеет не к тому, чтобы содействовать дискуссии, а к тому, чтобы обходить ее. Самое любопытное во всем этом, конечно, то, что хотя сейчас американцы и утопают в информации — благодаря газетам, телевидению и другим медиа, — обзоры регулярно сообщают об их постоянно падающей осведомленности в общественных делах. В "век информации" американский народ вопиюще плохо информирован. Объяснение этого кажущегося парадокса очевидно, хотя редко предлагается: будучи фактически исключенными из общественной дискуссии на основании их неосведомленности, большинство американцев не видит пользы в информации, которую им навязывают в таких огромных количествах. Они стали почти столь же некомпетентны, как это всегда утверждали их критики: напоминание, что сама дискуссия, и только лишь дискуссия, пробуждает желание полезной информации. В отсутствие демократического обмена большинство людей не имеют побудительного мотива к овладению знанием, которое сделало бы их полномочными гражданами.
Вводящее в заблуждение разграничение между знанием и мнением вновь появляется, в несколько иной форме, в полемике, которой недавно был охвачен университет (гл. 10, Академический псевдорадикализм). Эта полемика дошла до ожесточения, но не была доведена до конца, поскольку обе стороны разделяют одну и ту же не признаваемую ими посылку: что знание должно строиться на бесспорных основаниях, дабы быть хоть сколь-нибудь весомым. Одна фракция — опознаваемая как левая, хотя ее точка зрения несет в себе мало сходства с традицией, которую она претендует защищать, — отстаивает позицию, что крах "фундационализма" (foundationalism) дал возможность впервые увидеть, что знание – это лишь другое название власти. Главенствующие группы – белых мужчин-европоцентристов, в обычной формулировке, – навязывают всем остальным свои идеи, свой канон, свое прочтение истории, обслуживающее их самих. Их власть подавлять конкурирующие точки зрения якобы позволяет им требовать для их собственной партикуляристской идеологии статуса универсальной, трансцендентной истины. Критическое уничтожение "фундационализма", по мнению академических левые, вскрывает ложность этих притязаний и делает возможным для групп, пораженных в правах, оспаривать господствующую ортодоксию на тех основаниях, что она служит лишь для того, чтобы указывать женщинам, гомосексуалистам и "людям с цветной кожей" их место. Дискредитировав правящее мировоззрение, меньшинства в состоянии заменить его своим собственным или, по крайней мере, гарантировать равное количество часов на "черно-ориентированный" курс, феминистско-ориентированный курс, гомосексуалистско-, чироки-ориентированные курсы и на другие "альтернативные" идеологии. Как только знание отождествляется с идеологией, больше нет необходимости спорить с оппонентами на интеллектуальной почве или прислушиваться к их точке зрения. Достаточно отвергнуть их как европоцентристов, расистов, сексистов, гомофобов — иными словами, как политически неблагонадежных.
Консервативные критики университета, встревоженные, оно и понятно, столь радикальным отказом от западной культуры, не могут найти способа ее защитить иначе, как взывая к той же самой посылке, крах которой навлекает нападки на классику: что признание определенных изначальных аксиом является непреложным условием достоверного знания. К несчастью для их дела, сегодня уже невозможно воскресить те абсолютные истины, что когда-то, казалось, давали прочные основания для возведения надежных умственных построений. Поиски достоверности, ставшие навязчивой чертой современной мысли с тех пор, как Декарт попытался утвердить философию на неоспоримых суждениях, изначально уводили с верного пути. Как указывал Джон Дьюи, они отвлекали внимание от подлинного занятия философии, попытки прийти к "конкретным решениям … о целях и средствах регулирования практического поведения". В своей погоне за абсолютным и неизменным философы с пренебрежением взирали на ограниченное во времени и обусловленное. "Практическая деятельность – как говорит об этом Дьюи – стала в их глазах, по своей сути, вещью низшего порядка". В картине мира западной философии "знать" оказалось в расколе с "делать", теория – с практикой, голова – с телом. Долгое влияние этой традиции окрашивает консервативную критику университета. "Фундационализм", утверждают консерваторы, обеспечивает единственную защиту против нравственного и культурного релятивизма. Или знание держится на неизменных основаниях или человеческий род волен думать, что ему заблагорассудится . "Все распадается// не держит центр// Анархия спускается на мир". Консерваторы не устают цитировать Йейтса, желая показать, что происходит, когда изначальные аксиомы теряют свой полномочный вес. Волнения в академических сферах производятся, однако, не из отсутствия надежных основ, а из мнения (разделяемого, следует повто-~рить, обеими сторонами в этой дискуссии), что в их отсутствие единственно возможным выходом оказывается скептицизм, столь глубокий, что он становится неотличимым от нигилизма. То, что это, в действительности, не единственно возможный выход, было бы более чем очевидным для Дьюи; и оживление прагматизма как предмета исторического и философского исследования – одно из светлых пятен в беспросветной иначе картине - сохраняет некоторую надежду на возможность выбраться из академического тупика.