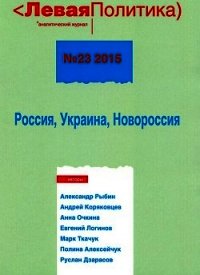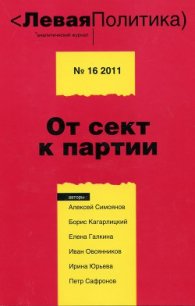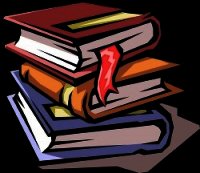Политология революции - Кагарлицкий Борис Юльевич (книги онлайн бесплатно серия .TXT) 📗
Стюарт Холл и позднее Фредерик Джеймсон очень удачно назвали полемику постмодернистской левой против старого марксизма «дискурсивной борьбой» [128]. В этом случае словесные ассоциации и образы фактически заменяют аргументы. Достаточно закрепить положительные или отрицательные ассоциации за теми или иными словами и можно простым употреблением их «доказать» все что угодно. Хорошие слова – «гражданское общество», «ассоциация», «диалог», плохие слова – «государство», «централизация», «контроль» и др. Что стоит за этими словами, уже не имеет значения. При этом, например, невозможно объяснить, что одни технологические процессы предопределяют необходимость централизации, а другие, напротив, с ней несовместимы.
Постмодернистский радикализм обещал выйти «за пределы тотализирующих понятий капитализма и классовой борьбы, характерных для классического марксизма». Политическим результатом этого станет «новый тип классовой борьбы, основанный на всем разнообразии повседневного жизненного опыта, демистификация великих нарративов революции». [129]
Отвергая «тотализацию» во имя конкретного, постмодернизм по-своему прав. Не потому, что всякая «тотализация» – тоталитарна (это не более чем игра слов, возможная, кстати, только в западных языках). Просто любое обобщение можно разложить, лишив всякого смысла. «Антитотализационный» пафос постмодернистской левой, будучи порождением интеллектуалов, в своей основе антиинтеллектуален. Борьба против «тотализации» на самом деле является борьбой против традиционного научного мышления и, в конечном счете, против научного мышления как такового.
Феминизм и постмодернизм
Теория имеет какой-то смысл, лишь в том случае, если осмысляет и переосмысляет конкретную практику, не различные «нарративы». Показательно, что пока радикальная постмодернистская интеллигенция пыталась переосмыслить «великие нарративы», в профсоюзах США происходили весьма глубокие сдвиги, способствовавшие возвращению организованного рабочего движения в политическую жизнь. Эти сдвиги, однако, просто не были замечены радикальной постмодернистской социологией. И это закономерно, ибо символическое место пролетариата, берущего на себя всемирно-историческую миссию освобождения человечества, в новой системе ориентиров заняли угнетенные группы и меньшинства – расовые, религиозные, национальные, сексуальные. Все они равноценны и равнозначны, никто не может претендовать на «руководящую» или «историческую» роль. Причем именно принадлежность к меньшинству является своеобразным признаком избранности (и одновременно угнетенности). И все же особое место в иерархии «меньшинств» заняли женщины, хотя, строго говоря, они являются как раз большинством.
Феминистская политика в наибольшей степени соответствовавшая критериям постмодернистской идеологии, в 1970-е и 1980-е годы была на подъеме. Исходные положения, общие для всех направлений феминизма, практически бесспорны. Во-первых, большая часть истории была временем господства мужчин и дискриминации женщин. Эта дискриминация лишь сравнительно недавно была формально осуждена обществом с достижением гражданского равноправия, но не более того. Во-вторых, преобладание мужчин в общественной жизни не могло не отразиться на господствующих социальных теориях, недостаточно принимавших во внимание интересы и взгляды женщин. Подобная критика может быть отнесена и к «классическому марксизму», хотя ряд авторов очень высоко ставит работы Фридриха Энгельса, подготовившие современный феминизм.
Между тем, заявляя свою цель в широком смысле как защиту интересов, прав и взглядов женщин, феминистское движение претендует на право говорить от имени массы, которая просто не существует в реальности: женщины принадлежат к разным классам и культурам. Противоречия между женщинами, входящими в противостоящие социальные группы, никак не меньше, чем соответствующие противоречия среди мужчин, они перевешивают любые формы «женской солидарности». В результате, с одной стороны, феминистская теория и соответствующее движение расслаивается на множество потоков, не только конфликтующих, но и совершенно несовместимых. А с другой стороны, именно «феминизм» отражающий настроения, идеалы и интересы женщин, принадлежащих к господствующим в обществе слоям и классам, становится господствующим видом феминизма. Начав с призывов к надклассовой солидарности женщин, такой феминизм все более становится выражением социального эгоизма представительниц западной буржуазной элиты.
«Сам по себе успех движения придает дополнительный вес его сторонникам, обеспечивает им позиции в академической системе, государственной бюрократии, парламенте, суде и, в меньшей степени, в руководстве корпораций. Это легитимизирует подобный «феминизм», одновременно вытесняя другие взгляды», – пишет Австралийская журналистка Пэт Бруер [130]. Однако политический успех преходящ, как и мода, особенно если он не закреплен структурными преобразованиями в обществе. Достижения феминизма были поставлены под вопрос неоконсервативной волной 1990-х.
Одним из важных направлений постмодернистского радикализма является критика «европоцентристской» традиции Просвещения (включая марксизм, традиционную социал-демократию и даже идеологию национального освобождения в «третьем мире»). В то же время сторонники подобных взглядов крайне нетерпимо относится к не-западным культурным традициям, отвергающим постмодернизм, права меньшинств и т. д.
Далеко не во всех культурах были восприняты с энтузиазмом представления о свободе и самоутверждении, пропагандировавшиеся феминистскими идеологами. И самое главное, далеко не все женщины, страдающие от дискриминации и готовые бороться с ней, склонны были разделять культурные и политические стратегии представительниц западного «среднего класса», выразивших свое мироощущение в радикальном феминизме.
Существует принципиальная разница между историческим женским движением XIX и первой половины XX века и западным феминизмом в том виде, в котором он сложился к 70-м годам. Показательно, что импортированный в страны бывшего советского блока западный феминизм никак не был связан с богатой революционной традицией русского женского движения начала века (наиболее ярким примером могут послужить взгляды и деятельность Александры Коллонтай).
Для того чтобы одновременно показать преемственность и отличие по отношению к женскому движению начала XX века, стал использоваться термин «новый феминизм» или «феминизм второй волны» [131]. Раньше ключевой идеей было равенство, теперь «особенность», идентичность.
Коль скоро речь все-таки идет уже не о феминизме, а о феминизмах, сама по себе феминистская «идентичность» оказывается двусмысленным и дезориентирующим политическим лозунгом. Похвальное стремление левых воспринять феминистскую критику старого социализма и переосмыслить собственные подходы в конечном счете привело к некритическому заимствованию идеологии и лозунгов либерального женского движения.
Если подъем борьбы за права женщин в начале ХХ века был тесно связан с общим подъемом демократических и социалистических движений, то расцвет «нового феминизма» – с их упадком. Десятки тысяч молодых людей из преуспевающих семей были политизированы и радикализированы событиями 1960-х годов, но это продолжалось недолго. С поражением «новых левых» стала меняться политическая культура «среднего класса». Для многих участников студенческих выступлений это означало отказ от радикализма, но не уход из политики. Поэтому не случайно, что подъем нового феминизма совпадает с упадком движения «новых левых».
Феминизм стал важным фактором политизации женщин, особенно в среде образованного «среднего класса». Но уже в конце 1970-х многие активистки феминистского движения обратили внимание на присущие ему (как и другим гражданским движениям) слабости и противоречия. «Предположим, рабочие будут протестовать только против боссов, женщины только против сексизма и дискриминирующего их разделения труда, черные лишь против расизма – подобная борьба имела бы смысл лишь в обществе, где все не было бы институционально взаимосвязано, где не было бы единой системы государственной власти. Но это просто не так, общество интегрировано единой культурой и единой системой производства, а потому частичные решения не получаются», – писала Хиллари Уэйнрайт в 1979 году [132]. Сложность в том, что даже тогда, когда частичное решение возможно, проблемы одних угнетенных групп могут быть решены за счет других.