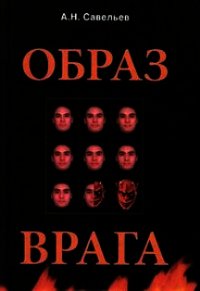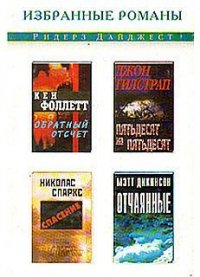Политическая мифология - Савельев Андрей Николаевич (бесплатная регистрация книга txt) 📗
Миф – это «образ, картина, смысловое явление личности, а не ее субстанция». Это – «лик личности». «Миф есть разрисовка личности, картинное излучение личности, образ личности», «личность отлична от своих мифических ликов, и потому она не есть ни свой лик, ни свой миф, ни свой мифический лик». «Религия есть вид мифа, а именно мифическая жизнь, и притом мифическая жизнь ради самоутверждения в вечности», «религия есть специфическая мифология, а именно мифология жизни, точнее же жизнь как миф» (146).
Когда мы говорим о наличии религиозных типов в политике, речь идет о мифологических типах. По-настоящему религиозные типы в политике чрезвычайно редки и скорее присутствуют в литературе как «идеальные типы», к которых есть узнаваемые черты известных общественных деятелей.
Для ясности, необходимой при уяснении взаимоотношения мифологического и политического, психологического и религиозного, сведем затронутые в предыдущих разделах понятия в Таблицу.

Особенностью таблицы является тождество ее левой и правой границы (лист нужно мысленно свернуть в трубочку). При этом прошлое сближается с вечным, мифология – с религией, должное – с абсолютным и т.д.
В последующих разделах будет раскрыта взаимосвязь различных элементов данной таблицы.
1.5. Смысложизненные мотивы в мифе и в политике
Политическая мифология так или иначе обращается к смысложизненным мотивам – либо в прямой форме политической риторики, либо в части пробуждения определенного рода архетипов общественного сознания.
Курт Хюбнер указывал на особую логику мифа, чувствительную к живой полноте мира, а потому связанную с ценностными мотивами того или иного логического выбора (особого для мифа, но не менее значимого, чем научный дедуктивный выбор): «Говорят, технико-индустриальный мир неизмеримо улучшил условия нашего материального существования, и это по большей части, несомненно, верно. Но, с другой стороны, мы должны также признать, что отнюдь не всегда это было мечтой человечества. Если прочесть, что все философы и пророки в течение человеческой истории называли высшим счастьем, если рассмотреть зачастую столь отличающиеся от наших ценностные ориентации прошлых времен, то можно обнаружить, что им были совершенно чужды те желания, которые нам кажутся естественными. Не то чтобы им не было кстати данное улучшение жизненных условий, хотя и в их время это тоже происходило, но такие улучшения искали в более высоком контексте, который был мифическим, религиозным или нравственным». «Даже когда технический мир начал свой победоносный поход, человечество вплоть до сегодняшнего дня не переставало сомневаться в его смысле и мудрости. Такое историческое напоминание показывает нам, что вопрос о рациональной обоснованности сегодняшнего акцентирования логически-операциональной рациональностью и стремления к ней в конечном счете зависит от того, насколько обоснованы связанные с этим высшие цели. Эти цели оказываются одновременно нормами, ибо им придается значение, обязательное для человеческого счастья, блага и добра, какое бы название ни давали последнему» (147).
Среди смысложизненных мотивов, чаще всего востребуемых в политике, мы выделяем мотивы свободы и судьбы, жизни и смерти.
Кассирер писал: «Мы знаем, что политическая свобода – это один из наиболее употребляемых и профанируемых лозунгов. Все политические партии утверждают, что они-то как раз и есть самые верные представители и защитники «свободы». Но они всегда определяют этот термин так, как им угодно, и используют его в своих интересах. Свобода как этическая категория – значительно более простая вещь. Она свободна от той многомысленности, которая присуща политическому и философскому термину» (148).
В противовес этому утверждению необходимо сказать, что мифическое слово принципиально многозначно и скрывает в себе смыслы, меняющиеся в зависимости от той или иной группы, охваченной той или иной мифологией. Если мифологическое сообщество суть эмоциональное и магическое объединение людей, то никакие трактовки слов другого сообщества не обязаны в нем быть универсальными. Свобода как смысложизненная ценность и мотив действия наполняется содержанием в зависимости от «картины мира», которая принята в мифе или политической концепции.
К примеру, кантовское деление на внутреннюю и внешнюю свободу отделяет политические спекуляции (всякого рода благопожелания и институциональные изобретения) от смысложизненного мотива, который позволяет считать раба духовно свободным, а пользователя либеральной демократии – рабом собственных инстинктов, ловко возбуждаемых скрытой олигархией.
Термин «свобода» неопределим вне мифологии, которая ставит ему жесткие рамки, вне которых действует рок, судьба, неотвратимый закон. Свобода – в выборе («налево пойдешь…, направо пойдешь…»), но после выбора (точка бифуркации) срабатывает жестко детерминированная причинно-следственная связь.
Выяснение смысла свободы приводит Бердяева к такому заключению: «Свобода была понята исключительно как право, как притязание людей, в то время как она есть прежде всего обязанность. Свобода есть не то, что человек требует от Бога, а то, что Бог требует от человека. И потому свобода есть не легкость, а трудность, тяжесть, которую должен взять на себя человек. И лишь немногие на это соглашаются. Свобода, в духовном смысле, – аристократична, а не демократична. Есть и буржуазная свобода, но она есть извращение и надругательство над духом. Свобода – духовна, она есть дух. Она исходит из нуменального мира и опрокидывает детерминированный порядок мира феноменального» (149).
Человек создает общество, лишенное естественно-природных качеств и наделенное качествами естественно-человеческими. Общество настолько человечно, насколько оно духовно, а попытка следования естественно-природному выливается в звероподобие общества.
Естественные и точные науки магии лишены (что, правда, не отменяет магическую природу творчества, предполагающего прозрение даже для механистических истин). Но они эффективно помогают действовать лишь человеку, включенному в общество, соединяемое не дифференциацией труда или иным союзом эгоизмов, а волей государственной власти, харизмой вождя и Традицией. Сугубый рационалист останется на поверхности фактов и никогда не приблизится к разгадке социальных процессов (хотя, быть может успешно продвинется в познании природы), человек магический – уверенный, что словом или даже просто желанием можно изменять действительность – увидит за социальным фактом Космос и Логос «активной материи». Именно вместе с мифологией свобода становится смысложизненным мотивом.
Свобода как недостижимая цель общедоступна. В плане смысложизненной ценности она – аристократична, недоступна или немыслима для большинства. Когда же свобода становится политической целью, смысложизненный мотив рассыпается, раскалываясь на всякого рода «политические свободы».
В мифологическом пространстве собственного бессознательного оказаться может каждый, но не каждому дано освоить свободный полет в этом пространстве, не каждый может быть магом хотя бы по отношению к самому себе.
Бердяев пишет: «Бог присутствует и действует лишь в свободе. Он не присутствует и не действует для необходимости. Бога можно найти в Истине, Добре, Красоте, Любви, а не в миропорядке. Бог в правде обнаруживается в мире, а не в силе в нем господствует. Бог есть Дух, и Он может действовать лишь в духе и через дух. К Богу совершенно неприменимы наши понятия о силе, о власти, о причинности. Таинственность действия Бога в мире и человеке обыкновенно выражается в учении о благодати. Благодать ничего схожего не имеет с нашим, от мира взятым пониманием необходимости, силы, власти, каузальности» (150).
Мы видим как смысложизненный мотив свободы, столь широко присутствующий в политической риторике, в религии смыкается с идеалом Правды. Свобода видится не в социальных установлениях, а в жизни Духа и преодолевающей закон причинности Благодати.