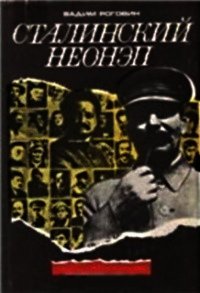1937 - Роговин Вадим Захарович (читать лучшие читаемые книги .txt) 📗
Расстрелами людей, вошедших в историю как вожди революционного большевизма, Сталин хочет представить мировой буржуазии «символ нового времени», свидетельство своего разрыва с идеей мировой революции и «национально-государственной зрелости». Такая политика отталкивает рабочий класс капиталистических стран от официальных коммунистических партий. Это не очень беспокоило бы Сталина, если бы он не боялся того, что западные рабочие найдут пути к IV Интернационалу. Поэтому он «кровью и грязью хочет отрезать передовым рабочим пути в ряды IV Интернационала. Это ещё одна цель Московского процесса» [151].
Описывая историю политических процессов последних лет, Седов подчёркивал, что все они были построены на трупе Кирова, вокруг которого сфабриковано уже четвёртое дело. Реальность убийства Кирова должна придать видимость реальности подготовке других покушений.
На основе официальных советских сообщений Седов приводил подсчёты, согласно которым в связи с убийством Кирова было осуждено 104 белогвардейца; 14 расстрелянных по делу «Ленинградского центра»; 19 жертв процесса «Московского центра»; 12 работников ленинградского управления НКВД; 78 привлечённых по делу «контрреволюционной группы Сафарова — Залуцкого»; 16 расстрелянных по приговору последнего суда; 12 человек, дела которых этим судом были выделены в особое производство; 40 человек, которые были названы на суде в качестве террористов. Подавляющее большинство из этих почти трёхсот человек не имело никакого отношения к убийству Кирова. Тем не менее все они «припутаны Сталиным к этому убийству, и неизвестно, сколько раз ещё Сталин вытащит труп Кирова и какое количество людей ещё обвинит в ответственности или причастности к этому убийству». За вычетом белогвардейцев, чекистов и лиц, расстрелянных вместе с Николаевым, остаётся более 150 человек, по преимуществу старых большевиков. «Если кому-нибудь нужно было бы составить список в 20—25 наиболее видных представителей большевизма, сыгравших наибольшую роль в истории партии и революции, ему можно смело рекомендовать взять за основу этот список» [152].
Отмечая, что на Западе не понимают, как старые революционеры могли выступить с лживыми признаниями на суде, Седов писал: «Мысленно при этом представляют себе Зиновьева или Смирнова не последнего периода, а героических годов русской революции. А с тех пор ведь прошло почти 20 лет, больше половины которых падает на термидорианский растленный сталинский режим. Нет, на скамье подсудимых сидели лишь тени Смирнова гражданской войны или Зиновьева первых лет Коминтерна. На скамье подсудимых сидели разбитые, загнанные, конченные люди. Перед тем, как убить их физически, Сталин искромсал и убил их морально». Поведение подсудимых на процессе было подготовлено логикой их политической эволюции после отречения от своих взглядов. Уже задолго до процесса они утратили стимулы к борьбе, помогая Сталину топтать себя в грязи. «Сталинское „искусство“ ломания революционных характеров заключалось в том, чтобы идти осторожно, постепенно толкая этих людей со ступеньки на ступеньку, всё ниже и ниже» [153].
Наглядным подтверждением этого Седов считал поведение Раковского, который отказывался капитулировать дольше других, а после своей капитуляции в 1934 году дошёл до того, что в дни процесса 16-ти выступил со статьёй, требовавшей расстрела «организаторов покушения на жизнь любимого нашего вождя тов. Сталина, агентов германского гестапо» [154]. Эта постыдная статья вызвала особое недоумение в среде западной социалистической интеллигенции, где Раковского хорошо знали и высоко ценили как старейшего деятеля международного рабочего движения, выдающегося дипломата и морально безупречного человека. Объясняя поступок Раковского, Седов писал: «Капитуляция — наклонная плоскость… Раз став на неё, нельзя не скатываться дальше, до самого конца… Половинчатой капитуляции сталинский абсолютизм не признаёт: или всё — или ничего, среднего не дано» [155].
В этих оценках поведения капитулянтов, как выведенных на процесс, так и оставленных до поры до времени на свободе, иные могут усмотреть самоуверенность молодости, чрезмерную жестокость молодого человека, не обладавшего моральным правом судить, выносить нравственный приговор, ставить крест на затравленных людях. При таком подходе можно провести резкую грань между Троцким, который имел право на жёсткие, подчас беспощадные оценки поведения своих бывших товарищей, потому что сам за сорок лет своей революционной деятельности многое испытал, и Седовым, которого жестокость политических схваток ещё не пробовала на излом. Действительно, сам Троцкий в письмах Седову предостерегал последнего от слишком резких оценок поведения подсудимых на московских процессах. Не будем, однако, забывать, что в условиях, когда интернированный Троцкий не имел возможности ответить на многочисленные вопросы, возникавшие по поводу процесса 16-ти, Седову приходилось выступать (исходя из психологической схемы, предложенной его отцом — в статьях о процессах 1934—1935 годов), от имени тысяч советских оппозиционеров, выдержавших самые страшные испытания и тем не менее не пошедших на поводу у своих палачей.
Конечно, ни Троцкого, ни Седова не сажали в раскалённую камеру, как Зиновьева, не пропускали через девяносточасовой конвейерный допрос, как Мрачковского, с ними коварно не играли, как с Бухариным (хотя последний, как будет видно из дальнейшего изложения, как бы сам напрашивался на такую игру). Но судьбу и Троцкого, и его сына, подвергавшихся непрерывной слежке и опасности террористического покушения, никак нельзя назвать благополучной. Закономерным финалом длительной охоты за ними стала трагическая гибель первого в 1940, а второго — в 1938 году.
Говоря о поведении подсудимых, Седов отмечал поверхностность его сопоставления с поведением Димитрова на Лейпцигском суде. Димитров, как и другие борцы с гитлеризмом, не был изолирован от революционного движения, он чувствовал резкое политическое размежевание (фашизм — коммунизм) и массовую поддержку прогрессивных сил всего мира. Московские же подсудимые, «хотя и стояли перед термидорианским судом сталинских узурпаторов, но всё же судом, который своей фразеологией апеллировал… к Октябрьской революции и социализму. Наряду с чудовищными моральными пытками инквизиторы из ГПУ, разумеется, использовали и эту фразеологию, в частности, и военную опасность. Она не могла не помочь им сломить этих несчастных подсудимых» [156].
Напоминая, что, согласно свидетельствам сталинских узников, сумевших вырваться из СССР, ГПУ широко прибегало к угрозам расправы с семьями обвиняемых и к жестоким конвейерным допросам («один и тот же вопрос ставится с утра до ночи в течение недель стоящему на ногах подследственному»), Седов высказывал уверенность, что при подготовке процесса 16-ти использовались и «пытки из арсенала самой чёрной и страшной инквизиции». Однако, несмотря на всё это, у всех подсудимых из числа старых большевиков, как писал с глубоким сочувствием к их судьбе Седов, «нашёлся последний остаток сил, последняя капля собственного достоинства. Как ни были они сломлены, но никто из стариков не взял на себя, просто физически не мог взять на себя — „связь с гестапо“. Мы считаем — это может показаться парадоксальным на поверхностный взгляд, что внутренняя моральная сила Зиновьева и Каменева весьма значительно превосходила средний уровень, хотя и оказалась недостаточной в условиях совершенно исключительных» [157].
Седов сумел доказать, что подсудимые были выделены «путём долгого и страшного следствия из 50 или даже большего числа других заключённых-кандидатов». Для подтверждения этой гипотезы он использовал существенную промашку, допущенную организаторами процесса. В судебном отчёте с бюрократической аккуратностью указывались номера дел каждого подсудимого. Расположив фамилии одиннадцати подсудимых в алфавитном порядке, Седов обнаружил, что их дела включали номера от 1 до 29. «Кто же остальные восемнадцать? Нам кажется очень вероятным, что за отдельными исключениями, вроде Сафоновой… эти „недостающие“ подсудимые были из тех, кого Сталину не удалось сломить и кого он, вероятно, расстрелял без суда» [158].