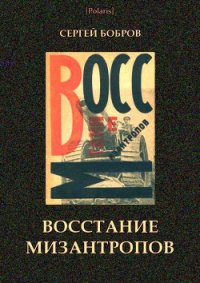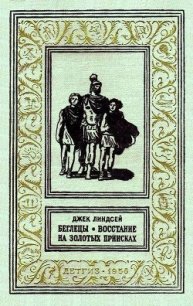Восстание элит и предательство демократии - Лэш Кристофер (е книги TXT) 📗
Если такие выражения, как "популизм" и "община", сегодня выпукло выступают в современном политическом дискурсе, то это потому, что идеология Просвещения, будучи подвергнута нападкам из самых разных источников, многое потеряла из своей привлекательности. Притязания на универсальность разума оказались универсально сомнительными. Надежды на систему ценностей, которая превосходила бы особость сословия, национальности, религии и расы, уже не внушают большой веры. Разум и этика Просвещения все более видятся ширмами власти, и перспектива того, что миром может править разум, представляется более отдаленной, чем когда бы то ни было, начиная с 18-го века. Возникновение гражданина мира прообраза будущего человечества, согласно философам Просвещения, – не столь уж очевидно. У мае есть некий всеобщий рынок, но его существование не влечет за собой тех цинилизующих результатов, что столь уверенно ожидались Юмом и Вольтером. Вместо того, чтобы породить новое понимание общности интересов и наклонностей – основополагающей одинаковости человеческих существ повсюду — общемировой рынок, похоже, обострил сознание этнических и национальных различий. Единообразие рынка идет рука об руку с раздробленностью культуры.
Угасание Просвещения политически сказывается в угасании либерализма, во многих отношениях – самого привлекательного плода Просвещения и носителя его лучших чаяний. Несмотря на все перестановки и превращения в либеральной идеологии, две ее главные характеристики удерживались на протяжении всех лет: ее приверженность прогрессу и ее вера в то, что либеральное государство сможет обойтись без гражданской доблести. Эти две идеи связывались в логическую цепочку, имеющую в качестве предпосылки то, что капитализм дал каждому основания стремиться к уровню благосостояния, ранее доступному только богатым. Впредь люди будут посвящать себя своему собственному делу, уменьшая необходимость в правлении ими, каковое сможет более-менее осуществляться само собой. Именно идея прогресса сделала возможным полагать, что общества, благословленные материальным изобилием, смогут обойтись без активного участия граждан в управлении. В свете последствий американской революции либералы начали приводить аргументы – против прежнего взгляда, что "добродетель, связанная с публичной жизнью, есть единственное основание для основания республики", пользуясь выражением Джона Адамса, – за то, что надлежащая система конституционных взаимозависимости и взаимоограничения "сделает выгодным даже для недобропорядочных людей способствовать общему благу", как выразился Джеймс Уил-сон. По мнению Джона Тейлора, "стяжательское общество сможет создать правление, способное защитить его от стяжательства его чле-ИОВ"," посредством корысти" завербовав "порок … на сторону доб-родетели".Следуя доводам Тейлора, первооснова добронравия заложена п "принципах правления", а не в "бренных качествах челове-в< кнч особей". Установления и "законы общества могут быть осно-МНЫни ноПродетели, даже если особи, составляющие его, будут Нарочными",Парадокса добродетельного общества, основанного на порочных индивидуумах, сколь бы ни приемлемого в теории, никогда с особой последовательностью не придерживались на практике. В области личной порядочности либералы принимали за само собой разумеющееся куда больше того, чем готовы были признать. Даже сегодня либералы, которые придерживаются этого уничижительного взгляда на гражданственность, тайком вкладывают определенную дозу гражданственности в самые стыки своей идеологии свободного рынка. Сам Милтон Фридман признает, что либеральное общество требует "минимальной степени образованности и знания" наряду с "повсеместным приятием некой общей системы ценностей". Не очевидно, что наше общество может удовлетворить хотя бы этим минимальным условиям, судя по тому, как ныне обстоят дела, но, во всяком случае, очевидно было всегда, что либеральному обществу требуется больше гражданской доблести, нежели Фридман ему отводит. Система, всем весом опирающаяся на понятие о правах, предполагает человеческих особей, которые уважают права других, хотя бы только потому, что ожидают от других в ответ уважения их собственных прав. Рынок сам по себе, будучи главным установлением либерального общества, предполагает, по самой крайней мере, расчетливых, с наметанным глазом, трезвомыслящих индивидов – совершенный образец рационального выбора. Он предполагает не просто своекорыстие, но просвещенное своекорыстие. В этом была причина того, что либералы в 19-м веке придавали столь большое значение семье. Обязанность содержать жену и детей, на их взгляд, обуздает собственнический индивидуализм и превратит потенциального игрока, гуляку, фата или мошенника в добросовестного кормильца. Отринув былой республиканский идеал, гражданственности, как и республиканский обвинительный приговор роскоши, либералы лишили себя основания, опираясь на которое они могли бы призывать отдельных человеческих особей подчинять частную корысть общему благу. Но, по крайней мере, они могли апеллировать к высшей форме себялюбия – браку и отцовству. Они могли просить если не об обуздании своекорыстия, то о более возвышенной его форме и очищении.
Надежде, что возросшие ожидания побудят мужчин и женщин облечь своими честолюбивыми мечтаниями собственных отпрысков, в конце концов, не было суждено оправдаться. Чем больше капитализм начинал ассоциироваться с немедленным вознаграждением и планируемым устареванием, тем безжалостнее он подтачивал моральные основы семейной жизни. Рост процента разводов, представлявший источник тревоги уже в последней четверти 19-го века, казалось, отражал некое возрастающее нетерпение от пребывания в путах, налагаемых долговременными обязательствами и ответственностью. Страсть двигаться вперед начала негласно предполагать право начинать все сначала, когда бы только прежние обязательства ни сделались чрезмерно в тягость. Материальное изобилие ослабляло и экономические и моральные основы "упорядоченного государства, основанного на институте семьи", столь желанного для либералов 19-го века. Семейный бизнес уступил место корпорации, семейное фермерское хозяйство (более медленно и болезненно) – коллективизированному сельскому хозяйству, в конечном счете под управлением тех же самых банковских домов, в лоне которых зародился проект укрупнения промышленного производства. Выступления фермеров 1870, 1880, и 1890-х гг. оказались первым раундом в долгой, обреченной на поражение борьбе во спасение семейной фермы, лелеемой, как нетленные мощи, американской мифологией еще и поныне в качестве sine qua поп добропорядочного общества, но на практике ввергнутой в разрушительный кругооборот механизации, задолженности и перепроизводства.
Таким образом, вместо того, чтобы служить противовесом рынку, семья претерпела вторжение рынка и была им подорвана. Сентиментальное почитание материнства даже в высший момент своей силы в конце 19-го века так и не смогло затмить ту реальность, что во времена, когда деньги становятся универсальной мерой ценности, неоплачиваемый труд таит в себе язву социальной неполноценности. По большому счету, женщин заставили проложить себе путь на рабочее место не только потому, что их семьи нуждались в дополнительном доходе, но потому, что оплачиваемый труд представлял, казалось, единственную их надежду добиться равенства с мужчинами. В наше время все яснее становится видно, что цена этого вторжения рынка в семью оплачивается детьми. При обоих родителях на рабочем месте и в бросающемся в глаза отсутствии более старшего поколения семья теперь не способна оградить детей от рынка. Телевизор, по бедности, становится главной нянькой при ребенке. Его вторжение наносит последний удар по едва теплящейся надежде, что семья сможет предоставить некое убежище, в котором дети могли бы воспитываться. Сейчас дети подвергаются воздействию внешнего мира с того возраста, когда становятся достаточно большими, чтобы без присмотра оставаться перед телеящиком. Более того, они подвергаются его воздействию, в той грубой, однако соблазнительной форме, которая представляет ценности рынка на понятном им простейшем языке. Самым недвусмысленным образом коммерческое телевидение ярко высвечивает тот цинизм, который всегда косвенно подразумевался идеологией рынка. Общепринятое сентиментальное убеждение, что самое дорогое в жизни не купить ни за какие деньги, давно кануло в пучину забвения. Поскольку ясно, что, в мире, который изображает коммерческое телевидение, самое дорогое стоит очень больших денег, люди стремятся к деньгам средствами честными или бесчестными. Представление, что преступление не окупается, – другая отброшенная условность – уступает место тому пониманию, что последовательные попытки блюсти законность – это битва, обреченная на поражение, что политические власти беспомощны перед лицом преступных синдикатов и зачастую препятствуют полиции в ее усилиях призвать преступников к ответу, что все конфликты разрешаются путем насилия и что угрызения совести по поводу насилия обрекают совестливого на положение неудачника.