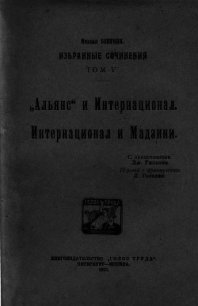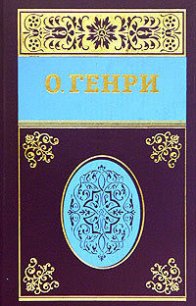Избранные сочинения. Том II - Бакунин Михаил Александрович (бесплатные онлайн книги читаем полные версии .TXT) 📗
государственною переворота точно так же, как и наиболее крупные писатели буржуазного радикализма — Виктор Гюго, Кине и др. много говорили о преступлении и преступниках
декабря, но никогда не удостоили остановиться на преступлении и преступниках июня [31]! И однако очевидно, что декабрь был ничем иным, как роковым следствием июля и его повторением в увеличенном масштабе.
Почему же это молчание относительно июня? Не потому ли, что июньские преступники были буржуазные республиканцы, и вышеупомянутые писатели морально были в большей или меньшей степени их сообщниками? Сообщниками принципиальными и в таком случае неизбежно косвенными сообщниками их деяний? Это весьма правдоподобно. Но есть еще и другая причина, уже достоверная. Преступление июня было совершено лишь над рабочими, социалистами революционерами, следовательно чуждыми классу и естественными врагами принципов, представляемых всеми этими почтенными писателями. Между тем, как преступление Декабря задело и изгнало тысячи буржуазных республиканцев, их братьев с социальной и их единомышленников с политической точки зрения. И притом они сами все явились более или менее жертвами его. Отсюда их крайняя чувствительность к Декабрю и равнодушие к июню.
Общее правило: Буржуа, каким бы красным республиканцем он ни был, будет гораздо более живо потрясен, взволнован и поражен неудачей, жертвой которой окажется другой буржуа, будь то отчаянный империалист, — чем несчастием рабочего, человека из народа. В этом различении есть, конечно, великая несправедливость, но эта несправедливость отнюдь не предумышленная, она — инстинктивная. Она происходит от того, что условия и привычки жизни, всегда оказывающие на людей более могущественное влияние, чем их идеи и политические убеждения, эти условия и эти привычки, эта специальная манера существовать, развиваться, думать и действовать, все эти социальные отношения, столь многочисленные и в то же время столь правильно сводящиеся к одной и той же цели, составляющей буржуазную жизнь, буржуазный мир, — устанавливают между людьми, принадлежащими к этому миру, каковы бы ни были различия их политических мнений, бесконечно более реальную, более глубокую, более могущественную и, в особенности, более искреннюю солидарность, чем та, какая могла бы установиться между буржуа и рабочими, вследствие более или менее глубокой общности убеждений и идей.
Жизнь господствует над мыслью и определяет волю. Вот, истина, которую никогда не следует терять из вида, когда хотят понять что-либо в политических и социальных явлениях. Если хотят установить искреннюю и совершенную общность мыслей и воли между людьми, нужно основывать их на одинаковых жизненных условиях, на общности интересов. А так как самые условия существования мира буржуазного и мира рабочего создают между ними пропасть, ибо один мир — есть мир эксплоатирующий, другой же — эксплоатируемый и жертва, я заключаю, что, если человек, рожденный и воспитанный в буржуазной среде, хочет сделаться искренне и не на словах только другом и братом рабочих, он должен отказаться от всех условий своего прошлого существования, от всех своих буржуазных привычек, порвать все свои отношения с буржуазным миром — в области чувства, тщеславия и ума и, повернувшись спиной к этому миру, ставши его врагом и об'явив ему непримиримую войну, броситься целиком без ограничений и без возврата в рабочий мир.
Если он не испытывает этой страстной жажды справедливости, достаточной для того, чтобы внушить ему такую решимость, влить в него такое мужество, — пусть он не обманывает самого себя и не обманывает рабочих; он никогда не сделается их другом. Его отвлеченные мысли, его мечты о справедливости могут еще увлечь его на сторону мира эксплоатируемых в моменты спокойного теоретического размышления, когда все тихо кругом. Но пусть наступит великий социальный кризис, когда два эти непримиримо противоположные мира встретятся в решительной битве, и все привязанности его жизни неизбежно отбросят его в мир эксплоататоров. Это уже случалось раньше со многими из наших бывших друзей, и это всегда будет происходить со всеми буржуазными республиканцами и социалистами.
Социальная ненависть, как и ненависть религиозная, гораздо напряженнее, гораздо глубже, чем ненависть политическая. Вот об'яснение снисходительности ваших буржуазных демократов к бонапартистам и их чрезмерной строгости к революционерам социалистам. Они ненавидят гораздо меньше первых, чем вторых; и необходимым последствием этого является их об'единение с бонапартистами в общей реакции [32].
Бонапартисты, сперва чрезвычайно перепуганные, скоро заметили, что в лице правительства Национальной Обороны и всего этого нового мнимо-республиканского и оффициального люда, созданного на спех этим правительством, они имеют могущественных союзников. Они должны были весьма удивиться и обрадоваться, — они, которые, за отсутствием других качеств, обладают по меньшей мере качеством действительно практических людей, желающих средств, которые ведут к их цели, — когда они увидели, что это правительство не только пощадило их самих и предоставило им пользоваться на полной свободе плодами их грабежа, но даже сохранило повсюду, в военной, юридической и гражданской администрации новой Республики старых чиновников Империи, довольствуясь лишь замещением префектов и супрефектов, генеральных прокуроров и прокуроров Республики, но оставляя все канцелярии префектур точно так же, как и самые министерства, переполненными бонапартистами и громадное большинство коммун Франции под развращающим игом муниципалитетов, назначенных правительством Наполеона III, — тех самых муниципалитетов которые произвели последний плебисцит, и которые при министерстве Паликао и при иезуитском управлении Шевро развили в деревнях такую чудовищную пропаганду в пользу бесчестного.
Они должны были много смеяться над этой глупостью, действительно непостижимой, со стороны умных людей, составляющих теперешнее временное правительство, что они могли надеяться, что, как только они, республиканцы, встанут во главе власти, то вся эта бонапартистская администрация сделается тоже республиканской. Бонапартисты действовали совсем по иному в Декабре. Их первой заботой было сменить и изгнать, до последнего мелкого чиновника, всех, кто не хотел дать себя совратить, выгнать всю республиканскую администрацию и поставить на все должности от самых высоких до самых нисших и ничтожных питомцев бонапартистской банды. Что же касается до республиканцев
и революционеров, они массами ссылали и заключали в тюрьмы последних и высылали из Франции первых, оставляя внутри страны лишь наиболее безвредных, наименее решительных, наименее убежденных, наиболее глупых или же тех, кто согласились так или иначе продать себя. Вот, так то им удалось добиться власти над страной и надругаться над нею впродолжение больше, чем двадцати лет без всякого сопротивления с ее стороны. Ибо, как я уже заметил, бонапартизм ведет свое начало с июня, а не с декабря, и г. Жюль Фавр и его друзья, буржуазные республиканцы Учредительного Собрания, были его истинными основателями.
Нужно быть справедливым ко всем, даже к бонапартистам. Конечно, это негодяи, но негодяи весьма практичные. Повторяю еще раз, они обладали пониманием и желанием средств, ведших к их цели, и в этом отношении они выказали себя гораздо выше республиканцев, которые делают вид, будто они правят ныне Францией. Даже в настоящее время, после своего поражения бонапартисты выказывают себя более тонкими и много более могущественными политиками, нежели все эти оффициальные республиканцы, занявшие их места. Это они, а не республиканцы правят Францией еще и по сию пору. Ободренные великодушием правительства Национальной Обороны, утешившись созерцанием царящей всюду правительственной реакции вместо Революции, которой они опасаются, найдя снова во всех отраслях администрации Республики своих старых друзей, своих сообщников, неразрывно с ними связанных той солидарностью бесчестия и преступления, о которой я уже говорил, и к которой я возвращусь еще позже, сохраняя в своих руках ужасное орудие — все эти бесконечные богатства, которые они собрали на протяжении двадцати лет отчаянного грабежа, — бонапартисты решительно подняли голову.