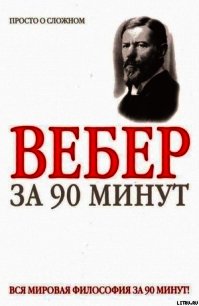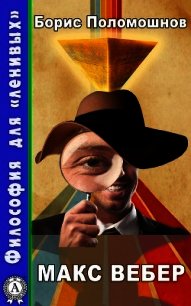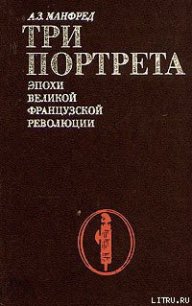Политические работы 1895–1919 - Вебер Макс (электронную книгу бесплатно без регистрации .txt) 📗
В позитивном же смысле равное избирательное право с чисто государственно–политической точки зрения тесно соотносится с тем равенством определенных судеб, которое опять–таки создается современным государством как таковым. Люди «равны» перед смертью. Приблизительно равны они и в необходимейших потребностях телесной жизни. И как раз эти простейшие, а с другой стороны — патетически возвышеннейшие явления охватываются еще и теми видами равенства, которые современное государство обеспечивает всем своим гражданам действительно на длительный срок и неоспоримо: чисто физическую безопасность и прожиточный минимум ради жизни и поле битвы ради смерти. Все неравенства в политических правах в прошлом, в конечном счете, восходят к экономически обусловленному неравенству военной квалификации, но таких неравенств нет в бюрократизированных государстве и армии. И вот, по отношению к неминуемому и нивелирующему господству бюрократии, из–за которого впервые возникло современное понятие «гражданина» (Staatsbürger), средство принуждения, называемое избирательным бюллетенем, является единственным, что вообще может предоставить тем, кто ему подчиняется, минимум права на соопределение в делах того сообщества, ради которого они должны идти на смерть.
Так, в Германии войну ведет империя, а из отдельных государств Пруссия из–за своего положения в империи является государством–гегемоном, в высшей степени определяющим политику последней. Поэтому индивиды обращаются к империи с требованием, чтобы она гарантировала по меньшей мере соблюдение абсолютного минимума долга политического приличия со стороны этого государства–гегемона по отношению к возвращающимся на родину воинам. Никто из этих воинов не должен (таковы имперские интересы) в имеющем решающее значение отдельном государстве ущемляться в политическом избирательном праве по сравнению с оставшимися на родине, что неизбежно произошло бы при любом избирательном праве, кроме равного[28]. Это требование носит государственно–политический, а не партийно–политический характер. Мы ведь не знаем ни настроения, ни политического настроя возвращающихся на родину воинов. Возможно, этот настрой будет чрезмерно «авторитарным». Ибо сильные «консервативные» партии будут всегда, так как всегда будут авторитарно настроенные люди. Тогда пускай они возьмут избирательные бюллетени и строят государство в соответствии со своими идеалами, а мы, оставшиеся на родине, возьмемся за нашу будничную работу. Однако с бесстыдным сопротивлением «бойцов, оставшихся на родине», противодействующих выполнению упомянутого долга элементарного приличия, мы здесь будем бороться. О том, чтобы деревья демократии устаревшей, негативной и требующей от государства только свободы не доросли до неба, заботятся неумолимые реалии современности, а лучше всего позаботилась бы ответственная сопричастность парламентских партийных вождей государственной власти. Именно опыт этой войны (в том числе, теперь в России) показал то, что мы уже однажды подчеркивали: ни одна партия, какой бы ни была ее программа, не может эффективно руководить государством, не становясь национальной. Мы переживем это у себя в Германии совершенно также, как другие пережили это повсюду. Поскольку социалистические партии других государств не были отделены от управления государством, они были более «национальными», чем (тогда) наша. Однако же, каково бы ни было настроение возвращающихся на родину бойцов, — в любом случае оно приносит с собой опыт, переживания и впечатления, свойственные только им. И мы полагаем, что, в первую очередь, вправе ожидать от них как минимум относительно большей степени конструктивности. Ибо задачи, которые ставит современная война, в высшей степени конструктивны. И еще мы ожидаем от них значительной меры невосприимчивости к пустым литераторским фразам, независимо от партии. Зато среди оставшихся на родине, прежде всего, среди имущих слоев и литераторов, в военное время проявляется столь отвратительная картина отсутствия объективности, недостатка политического глазомера и прилежно поощряемого ослепления по отношению к реалиям, что тут можно сказать лишь: «Ты отзвенел, так долой с колокольни!» Но перестройка избирательного права должна последовать уже во время войны. Ибо возвращающиеся на родину бойцы не должны быть поставлены перед необходимостью в бесплодных внутренних боях за избирательные права раздобывать себе средства принуждения, позволяющие определяющим образом высказывать свое мнение в государстве, существование которого они защищали. На родине они должны уже застать такой порядок с чисто политическими правами, каковой позволит им непосредственно приложить руки к материальной перестройке его структуры. Вот он, решающий в чисто практическом отношении аргумент в пользу равного избирательного права в Пруссии и его немедленного введения прямо теперь, до окончания войны.
И напротив того, мы знаем все фразы, какими заинтересованные лица стремятся запугать обывателей, а тем более — литераторов. Прежде всего — страхом перед разрушением мнимо «благородных» и потому благоприятствующих культуре «традиций», а также перед разрушением якобы «неисповедимой» политической мудрости господствующих в государстве, мнимо «аристократических» слоев со стороны демократии. Давайте же рассмотрим подлинное ядро этих аргументов, хотя поначалу они уведут нас в сторону от вопроса об избирательном праве как таковом.
Несомненно, что подлинная аристократия очень даже может сформировать целый народ в духе и в направлении ее идеалов благородства. Ибо плебейские слои подражают ее «жестам». И кроме того, связывая преимущество стойкой традиции и социально широкого горизонта с преимуществом «малочисленности», в качестве руководительницы государственного устройства она может добиться ценнейших в политическом отношении успехов. Далее, господство аристократии с политическими традициями по сравнению с формами демократического господства имеет такое государственно–политическое преимущество, как меньшую зависимость от эмоциональных моментов. Иными словами, у аристократов, как правило, более холодный ум, чем у остальных, и это продукт осознанно сформированного образа жизни и манеры держать себя, благодаря воспитанию настроенной на «contenance»[29]. Аристократии присуща способность действовать молчаливо, как правило, в существенно большей мере, чем как демократическим массам, так и (о чем льстецы по большей части умалчивают, хотя это приносит гораздо худшие результаты) современным монархам при отсутствии парламента. Все современные монархи, не опирающиеся на парламент, подвергаются опасности: они полагают, будто в интересах своего престижа должны, так сказать, речами создавать рекламу собственной личности подобно тому, как вынуждены поступать демократические лидеры в классовом государстве в целях привлечения сторонников. Поэтому народ должен благодарить небо, если у его монарха нет этого с государственно–политической точки зрения в высшей степени нежелательного таланта, а также потребности лично высказываться. А одна из сильных сторон парламентской системы заключается в том, что монарх защищен от компрометации собственной личности. Со старой же политической аристократией эта опасность связана меньше, чем с другими прослойками. И с этим преимуществом старая аристократия сочетает дарования в сфере культуры вкуса. Демократические государства выскочек, — вроде Италии, — обычно столь же лишены такой культуры, как и вновь возникшие монархии. Если ужасающее варварство неблагочестивого — и при этом благодаря антиклерикальным тенденциям ополчившегося на «тягостные», т. е. постыдные «воспоминания» — обезображивания Рима внушило великому итальянскому лирику Кардуччи желание: хоть бы тут создали на месяц церковное государство, чтобы вымести пустую театральность и безвкусицу этого «terza Roma»[30], — то лишенный своей скупой простоты Берлин с его жалким кафедральным собором, с его похожим на пугало памятником Бисмарку и многим другим в сравнении, к примеру, с Мюнхеном или Веной, но еще и с другими небольшими столичными городами, являет собой такой монумент банальному псевдомонументализму, что приходится с содроганием думать о вкусовых суждениях потомков об этом периоде германской истории и со стыдом — о поколении деятелей искусства, согласившемся на такое, а также о публике, которая этому не воспротивилась. Как бы там ни было, обезображивание Берлина доказывает, что монархия как таковая поистине не предоставляет ни малейшей гарантии культуре художественного вкуса, а зачастую ставит последнюю в опасность. Тогда как памятник Бисмарку в Гамбурге, единственное полноценное достижение среди памятников объединенной Германии, навсегда возвеличивает гамбургский патрициат и может показать нашим тупоумным литераторам, что «капитализм» и «искусство» не обязательно живут в состоянии той естественной вражды, какую им приписывают. Что касается демократий, то итальянские профсоюзные дома доказывают то же самое (это же доказывают такие города, как Цюрих). Но высокая культура вкуса в том виде, как она чаще всего присуща сплоченной и уверенной в себе аристократии, или такая же культура, присущая демократии, подражающей ее традициям, никоим образом не безразлична с чисто государственно–политической точки зрения: престиж Франции во всем мире зиждется на сокровищах, которые ей удалось спасти из своего аристократического прошлого — при в высшей степени бедственном упадке в сфере официальной заботы об искусстве — и заботе о которых как раз в интимных кругах художественного творчества продолжала способствовать эстетическая оформленность французов как человеческого типа. Здесь демократизация, по меньшей мере, отчасти привела к распространению старой и изысканной культуры вкуса, а вот что касается итальянцев как человеческого типа, то там распространилась как раз культура низших прослоек.