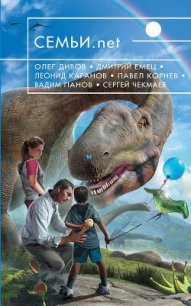Третий пол: Судьбы пасынков природы - Белкин Арон Исаакович (книги онлайн бесплатно без регистрации полностью .txt) 📗
Об участии в судьбе Селиванова другого российского самодержца, Александра I, аналитики из комиссии Липранди говорят с величайшей осторожностью, и их можно понять. Везде присутствуют оговорки: «скопцы уверяют», «по свидетельству скопцов», – то есть по принципу: за что купил, за то и продаю. Но нигде при этом не называют эти свидетельства глупыми мужицкими сказками или баснями. Ситуация, сложившаяся в России в 40-х годах, заставляла с горьким упреком оглядываться назад, во времена, когда скорыми и решительными действиями скопчество можно было подавить. Роль Александра, это угадывается без труда, представлялась прямо-таки зловещей. Авторы исследования не сомневаются в том, что молодой император питал к Селиванову непонятную слабость. Он не побрезговал посетить скопца в сумасшедшем доме и долго с ним разговаривал. Он распорядился перевести его в богадельню, где не было никакого надзора, и Селиванова часто видели в церкви, за его излюбленным занятием – он ходил между молящимися с кружкой, собирал пожертвования. Но и в богадельне, где над поведением призреваемых существовал хоть какой-то контроль, Селиванов пробыл недолго, всего 4 месяца, а затем был отпущен на волю и стал жить на попечении богатых купцов, занимавших видное положение в его секте. Александр по-прежнему о нем не забывал, навещал, подолгу беседовал и даже советовался. Стоит ли начинать войну с Наполеоном? – спрашивал монарх в 1805 году. Нет, еще не время, – сказал в ответ Селиванов.
В вызволении Искупителя из богадельни сыграла важную роль еще одна загадочная личность. 21 июля 1802 года в Санкт-Петербуржский Приказ общественного призрения поступила просьба от статского советника, польского дворянина Алексея Михайлова сына Елянского – отдать Селиванова на его пропитание и содержание, «с тем что он содержаться будет во всякой благопристойности и ни до каких дурных поступков допущен не будет». А ровно через день, 23 июля богадельный надзиратель получил предписание от приказа – «находящегося в богадельнях Орловской губернии селе Столбова крестьянина Кондратия Селиванова, отобрав у него казенные вещи, уволить к просителю статскому советнику Алексею Елянскому». Проситель оставил расписку в принятии, в которой указал, что имеет квартиру у Невской Лавре, что отрекся от гражданской службы «по случаю приобретения смиренной жизни» и по указу всемилостивейшего монарха получает пенсию из кабинета в год по 500 рублей. Этим он как бы подтверждал, что ему есть где приютить и на что кормить увольняемого из богадельни Селиванова. Но, видимо, заранее было условлено, что ни в какую Лавру тот не проследует, а сразу направится в дом к купцу Сидору Ненастьеву.
Алексей Елянский, или Еленский, статский советник и камергер, действительно был скопцом. «Смиренную жизнь» он начал не по своей воле, а по высочайшему решению: каким бы ни было личное отношение Александра к лицам третьего пола, держать их при дворе оказывалось, вероятно, не совсем удобно. Лаврский Благочинный и другие высокопоставленные церковники были в ужасе от поведения Еленского. Он самовольно отлучался из Лавры и подолгу отсутствовал, поддерживал связи с сектами, разбросанными по всей России, и что казалось ужаснее всего – содействовал продвижению скопческой заразы в монастыри. И еще, главное, имел дерзость жаловаться московскому митрополиту на то, что два послушника в Александро-Невской лавре, оказавшихся скопцами, не были допущены к причастию! Все это заставило задуматься об изменении меры пресечения, и в марте 1804 года, тоже по высочайшему повелению, Еленский был сослан в тот же Суздальский Спасо-Евфимиев монастырь, где впоследствии окончил свои дни Кондратий Селиванов.
И в том же 1804 году Еленский направил в кабинет Александра обстоятельный проект обустройства России, в котором предвидения скопческого мифа были изложены на языке конкретной государственной политики. Современный исследователь, известный культуролог Александр Эткинд называет его «беспрецедентно отважной программой, претендующей на контроль абсолютной степени: самый тоталитарный проект из всех, какие знала история утопий». Начав с армии и флота, Еленский предлагал радикально перестроить всю систему власти в целях организации режима, самого жесткого из всех мыслимых, – личной власти духовных лиц, образующих собственную иерархию. Все это, пишет Эткинд, утописты предлагали, а революционеры пытались осуществить и до Еленского и после него. Но никто не додумался (и не мог, добавлю, додуматься, не будучи представителем третьего пола!), что эти идеи осуществимы только при условии радикальной сексуальной революции – хирургической кастрации всех под руководством уже кастрированных.
А Селиванов тем временем спокойно жил в Петербурге. Вокруг него образовался плотный слой учеников, почитателей, среди которых внимательный глаз аналитиков различил несколько имен, известных еще со времен Сосновки. «Так, – не могу не процитировать, – удивительною, почти романтическою игрою судьбы, через тридцать лет, те же имена и лица, раскиданные по отдаленнейшим странам, снова соединились, снова сдвинулись на одной сцене; но уже с какой необычайною переменою обстановки. Вместо глухой степной деревни – столица империи, резиденция монаршьего дворца, средоточие Высшего правительства; вместо простых, грубых мужиков и баб – богатые столичные купцы, лица, облеченные саном монашества и священства, лица чиновные, в том числе камергер и статский советник; вместо укрывательства во ржи, в пеньковом снопе, под свиным корытом, в житнице, в подполье, вместо кандалов и острог, публичной казни и путешествия на каторгу на канате – честь Божеская и Царская, воздаваемая „таинственному Старцу“ в торжественных собраниях, простиравшихся, по свидетельству очевидцев, до трехсот человек»…
При первом явлении скопчества, во времена Екатерины, оно вызывало ужас, смешанный с брезгливостью. Рука, составлявшая инструкции для полковника Волкова, не в силах была прямо изложить на бумаге, о чем идет речь. Страшной тайне нельзя было позволить циркулировать даже внутри самого узкого круга приближенных. Но спустя всего лишь несколько десятков лет – еще даже не успела произойти полная смена поколений – все изменилось до неузнаваемости. Успело ли скопчество приучить к себе массовое сознание, стать частью общественного быта? Или главная причина была в смене веков, в смене эпох, несущей в себе неуловимое обновление ментальности? Ужас, внушаемый самой идеей оскопления и его чудовищной практикой, остался таким же сильным, но вместо отвращения и брезгливости к нему теперь примешивалось и нечто притягательное.
Все знали, где живет Селиванов. Само его присутствие создавало ореол исключительности вокруг этих вполне заурядных купеческих особняков, хотя бы уже тем, что у подъезда всегда стояла вереница щегольских экипажей. Скорее всего, это повышенное тяготение было во многом данью моде – в отсутствие телевидения была, я думаю, ничуть не меньшая потребность в немедленном получении информации о том, что возбуждает интерес, заставляет «всех» говорить о себе. Но я не исключаю и того, что свойственное скопцам восприятие Селиванова как человека святого, праведника высшей пробы передавалось и тем слоям общества, которые ни в чем другом с ними не пересекались.
Спустя сто с лишним лет возникла и была по достоинству оценена современниками головокружительная по вызываемым ею ассоциациям параллель – между Кондратием Селивановым и Григорием Распутиным. Простой мужик совершает головокружительное восхождение, завладевает вниманием истеблишмента, приобретает реальное политическое влияние. Но при этом остается самим собой, то есть мужиком. Он не проходит путь последовательных метаморфоз, подобно какому-нибудь американскому миллиардеру, заработавшему свои первые доллары в качестве чистильщика сапог, но в конце концов ставшему неотличимым от других миллиардеров. Он занимает место, грандиозное по важности и значению, но лишенное формальных признаков, должности или сана, место, которое можно определить только его собственным именем. Распутин был Распутиным – так же точно и Селиванов был Селивановым. Но при этой их феноменальной идентичности еще более внятным становится контраст между ними. В облике Распутина, в восприятии его главенствовало мужское начало, о чем он не позволял никому забывать. Селиванов, с такой же точной демонстративной заостренностью, был живым олицетворением бесполости.