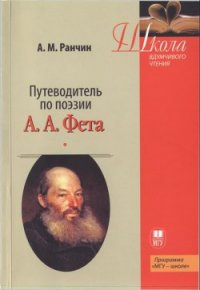«На пиру Мнемозины»: Интертексты Иосифа Бродского - Ранчин Андрей Михайлович (книги без регистрации бесплатно полностью сокращений txt) 📗
«Воспаленное нёбо» подъезда «с его шершавым / неизменным „16“» из «Декабря во Флоренции» (II; 384) — также зашифрованная отсылка к ходасевичевским строкам «Смотрю в штукатурное небо / На солнце в шестнадцать свечей» (с. 152).
Метафора Ходасевича — Бродского свидетельствует о замкнутости, о заключенности человека в мертвенном мире, в круге искусственных вещей.
И еще об одной сходной черте, отличающей обоих поэтов. Ходасевич очень любил кошек, о чем рассказал в «отрывках из биографии» «Младенчество». Бродский был также привязан к кошкам и упомянул об этом в эссе «Путешествие в Стамбул».
Напомню, что именно в этом эссе цитируется знаменитая строка из стихотворения Ходасевича «Петербург» о прививке «классической розы».
Конечно, к перечисленным образам Бродского обнаружатся параллели не только у Ходасевича: уподобление «часы — сердце» встречается в «Лире часов» Иннокентия Анненского; женщины-Парки напомнят о «неотвязных чухонках» с их вязаньем из «Старых эстонок» того же Анненского; рыба — «хордовый предок» Спасителя — родственна морским существам с нижних ступеней «лестницы Ламарка» у Осипа Мандельштама («Ламарк»), Но все же сходные черты поэтических текстов Бродского и Ходасевича показательны и не случайны.
Особенная значимость Ходасевича для Бродского объясняется, видимо, тем, что автор «Части речи» и «Урании» обнаруживал в судьбе автора «Тяжелой лиры» и «Европейской ночи» сходство с собственной жизнью. Такое сближение-сопоставление наделяло «Я» Бродского, неизменно осознающего свою отчужденность от собственных текстов, свое не-существование, признаком сущности, укорененности в бытии и поэзии. Бродского сближает с Ходасевичем и отстраненное описание собственного «Я». Несомненно, родственно Бродскому и ходасевичевское соединение предельной метафизичности и философичности с вещностью, осязаемой предметностью: у обоих поэтов чувственные вещи становятся своеобразными эмблемами бытия как такового.
«Было бы крайне интересно попытаться обосновать аналитически впечатления о Ходасевиче как одном из предшественников Бродского. Это потребовало бы особой и обстоятельной работы», — заметил Л. М. Баткин [633]. Эта глава — предварительный опыт такого анализа.
«Крылышкуя скорописью ляжек»: авангардистский подтекст в поэзии Бродского. Предварительные наблюдения
Предложенная в заглавии постановка проблемы может на первый взгляд показаться неожиданной, если не надуманной: хорошо известна холодность отзывов Бродского об авангардистских и модернистских поэтических течениях. Среди перечисляемых автором «Части речи» и «Римских элегий» любимых лириков, повлиявших на его творчество, нет имен поэтов авангарда. И все же «авангардистский» след у Бродского несомненен и значим.
Об интересе к поэтике этого течения свидетельствует, например, выбор переводившихся Бродским западнославянских лириков: бесспорные переклички с авангардизмом присущи Константы Ильдефонсу Галчинскому, к этому направлению принадлежит Витезслав Незвал, авангардистские черты свойственны стихотворениям Чеслава Милоша.
Близость, — хотя бы и ненамеренная, но вполне осознаваемая, — Бродского к авангарду возникает уже из-за глубокого усвоения им поэтики барокко (прежде всего, в английском варианте) [634]: барочная и авангардистская, в первую очередь футуристская, поэзия глубоко родственны и по исходным эстетико-культурным предпосылкам и по системе приемов, как показал И. П. Смирнов [635].
Кроме того, акмеистская традиция, неоднократно отмечаемая исследователями как источник творчества Бродского (не только очевидные обращения к поэзии Анны Ахматовой и Осипа Мандельштама, но и менее явные — переклички с М. Кузминым [636]), по мнению И. П. Смирнова, хотя и противоположна в некоторых исходных установках футуризму, во многом родственна футуристской эстетике и поэтике и может быть также отнесена к литературе «исторического авангарда» («постсимволизма»):
«Та элементарная структура, к которой можно возвести поэзию акмеистов, должна быть представлена в виде одного из вариантов инвариантной трансформации, отрезавшей русскую поэзию 1910-х годов от символизма. Специфика акмеистской реакции на символизм состояла в том, что это движение трактовало содержание знака не в роли отдельной вещи, т. е. не как явление, втянутое в гомогенный ряд с замещаемыми посредством знаков объектами, но как иную субстанцию, равноправную по отношению к естественным сцеплениям фактов. Иначе говоря, сигнификативная материя — разного рода культурные комплексы знаков — это, согласно акмеизму, нечто в себе и для себя существующее. Однако и футуристы, и акмеисты исходили при этом из той предпосылки, что содержание текстов лишено идеального характера, субстанциально по своей природе» [637].
Согласно И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирнову, в основе поэтики авангарда лежит «особого вида троп (в самом широком значении слова), покоящийся на противоречии» — катахреза [638]. Как продемонстрировала, в частности, А. Маймескулов, все основные черты «катахрестической» поэтики авангарда свойственны творчеству Марины Цветаевой [639], особенно высоко ценимому Бродским.
Общей для «исторического авангарда» — для Цветаевой и футуризма (например, Владимира Маяковского) и Бродского — оказывается «метафизическая» отчужденность лирического героя от окружающей его реальности. Напомню о мотивах невстречи и разлуки в любовной лирике Бродского или о таких строках: «<…> Передо мной пространство в чистом виде <…> В нем, судя по всему, я не нуждаюсь в гиде <…> …забуксовав в отбросах / эпоха на колесах нас не догонит, босых. // Мне нечего сказать ни греку, ни варягу. / Зане не знаю я, в какую землю лягу…» («Пятая годовщина (4 июня 1977 г.)», 1977 [II; 422]).
Встречаются у Бродского и отмеченные И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирновым и А. Маймескулов «авангардистские» (в частности, цветаевские) поэтические представления о изоморфности внешнего мира и мира внутри человеческого тела [640] («Тело похоже на свернутую в рулон трехверстку, / и на севере поднимают бровь» — «Колыбельная Трескового мыса», 1975 [II; 355]). Возникает у поэта и образ мира как «ткани», «материи», выделенный И. Р. Деринг-Смирновой и И. П. Смирновым и в поэзии Пастернака, Маяковского, Цветаевой и Мандельштама [641]. Напомню о «материи»-ткани в стихотворении «1972 год» и XII тексте и в «Римских элегий», и в «Дни расплетают тряпочку, сотканную Тобою…». Родственны «точки зрения» «исторического авангарда» — «постсимволизма» и «панорамное в видение» мира в лирике Бродского, взгляд на земной пейзаж с некоей высокой, — «птичьей» или даже «космической» точки (особенно в стихотворениях, вошедших в книгу «Урания»).
Наконец, автору «Части речи» и «Урании» свойственно и авангардистское «неразличение» вещи и ее образа, отражения или зрительного отпечатка. Ключевой образ лирики Бродского — сходящиеся «лобачевские» перспективные линии предметов, замыкающие пространство (символ одиночества — тюрьмы — клетки), — отталкивается не от физических свойств реальности, а от оптической иллюзии, но приписывается пространству и вещам как таковым («Конец прекрасной эпохи», «Колыбельная Трескового мыса» и др.) [642]. Укажу еще на уподобление тени, отбрасываемой скалой, некоей черной вещи: «<…> скалы Сассекса в море отбрасывают <…> / длинную тень, как ненужную черную вещь» («В Англии. I. Брайтон-Рок», 1977 [II; 434]).