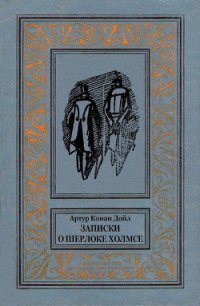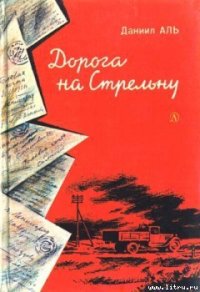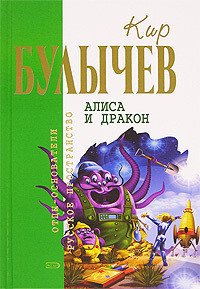Рассказы о литературе - Сарнов Бенедикт Михайлович (книги онлайн полные TXT) 📗
Он смело и прямо идет,
Соратников громко он кличет
И маршалов грозно зовет.
Но спят усачи гренадеры —
В равнине, где Эльба шумит,
Под снегом холодной России,
Под знойным песком пирамид.
И маршалы зова не слышат:
Иные погибли в бою,
Другие ему изменили
И продали шпагу свою...
Зовет он любезного сына,
Опору в превратной судьбе;
Ему обещает полмира,
А Францию только себе!..
Это «Воздушный корабль» — стихи, воспевающие Наполеона. Да, именно воспевающие, потому что для автора их, Михаила Юрьевича Лермонтова, Наполеон был романтическим героем, противостоящим низким и пошлым людям, окружавшим поэта.
А вот другой писатель. И совсем другой Наполеон:
«Император Наполеон еще не выходил из своей спальни и оканчивал свой туалет. Он, пофыркивая и покряхтывая, поворачивался то толстой спиной, то обросшей жирной грудью под щетку, которою камердинер растирал его тело. Другой камердинер, придерживая пальцем склянку, брызгал одеколоном на выхоленное тело императора с таким выражением, которое говорило, что он один мог знать, сколько и куда надо брызнуть одеколону. Короткие волосы Наполеона были мокры и спутаны на лоб. Но лицо его, хоть опухшее и желтое, выражал о физическое удовольствие...»
Вот этот другой Наполеон смотрит на портрет сына, того самого, о котором так трогательно говорит Лермонтов:
«С свойственной итальянцам способностью изменять произвольно выражение лица, он подошел к портрету и сделал вид задумчивой нежности. Он чувствовал, что-то, что он скажет и сделает теперь, — есть история. И ему казалось, что лучшее, что он может сделать теперь, — это то, чтобы он с своим величием... выказал, в противоположность этого величия, самую простую отеческую нежность. Глаза его отуманились, он подвинулся, оглянулся на стул (стул подскочил под него) и сел на него против портрета. Один жест его — и все на цыпочках вышли, предоставляя самому себе и его чувству великого человека».
Это — Толстой. «Война и мир».
Подумать только, какая разница! У Лермонтова — гордый изгнанник, идущий, несмотря на свое униженное положение, «смело и прямо»; у Толстого — самодовольный лицемер, жеманничающий перед самим собою, даже свои отцовские чувства превращающий в фальшивую актерскую позу. Там — «могучие руки». Здесь — выхоленное, жирное тело. В стихах — одинокий человек, преданный живыми и покинутый мертвыми. В прозе — барин, окруженный лакеями, кто бы они ни были, камердинеры или маршалы.
У Толстого, как вы, может быть, слышали, была своя философия истории. Он не верил в то, что течение истории хоть сколько-нибудь зависит от царей, полководцев и других исторических деятелей. Он был убежден, что события принимают тот или иной оборот вовсе не по их воле, а под влиянием совершенно иных, от них не зависящих причин и законов. И лучший полководец или государственный деятель, по его убеждению, будет тот, кто отойдет в сторону и даст событиям самим развиваться в нужном направлении. « Главное, — говорил он, — это не мешать течению событий».
Именно таким полководцем, мудро понимающим эту свою роль, изобразил Толстой Кутузова.
А Наполеон выглядит в его романе таким ничтожеством еще и потому, что он в своем тщеславном ослеплении совершенно уверен, будто управляет событиями, руководит ими. На самом деле эта его уверенность — всего лишь жалкий самообман.
Лермонтов, напротив, был убежден в том, что личность Наполеона наложила сильный отпечаток на ход исторических событий. Наполеон недаром изображается в его стихотворении кормчим, ведущим судно:
Скрестивши могучие руки,
Главу опустивши на грудь,
Идет и к рулю он садится...
Этими же самыми могучими руками — такова естественная логика лермонтовского образа — этот незаурядный человек держал некогда руль другого корабля: он вел корабль мировой истории.
Образ этот традиционен для русской поэзии. Почти в тех же выражениях Пушкин писал о Петре Великом:
Сей шкипер был тот шкипер славный,
Кем наша двигнулась земля,
Кто придал мощно бег державный
Рулю родного корабля...
Как видите, Толстой и Лермонтов по-разному относились и к личности Наполеона, и к той роли, которую эта личность сыграла в истории бурного девятнадцатого века.
Но и Лермонтов, восхищавшийся императором Франции, и Толстой, ненавидевший и презиравший его, сделавший Наполеона воплощением лицемерной пошлости, — оба могли бы сказать:
— Наполеон — это я!
Что значило бы:
— Это мой Наполеон! Я писал не Наполеона вообще, но своего Наполеона. Вернее, свое отношение к Наполеону...
Так всегда поступает художник. В красках, в звуках, в словах он воплощает свое отношение к миру. Свое, как говорили в старину, миросозерцание. Или, как сказали бы мы сегодня, мировоззрение.
СТО ПЯТЬДЕСЯТ ДОН ЖУАНОВ
Невозможно себе представить читателя, которому было бы неизвестно имя Дон Жуана. Кто встречал его в комедии Тирсо де Молина или Мольера, кто — в опере Моцарта, кто — в драматической поэме Алексея Константиновича Толстого, кто — в маленькой трагедии Пушкина, кто — в повести Мериме, кто — в романе Байрона, кто — в рассказе Чапека, кто — в новелле Гофмана, кто — в стихотворении Брюсова, кто... Впрочем, перечислить их — безнадежное занятие. Если бы мы взялись назвать их всех, нам пришлось бы выделить под один этот список целую главку, никак не меньше. Ведь мировая литература насчитывает около ста пятидесяти Дон Жуанов!
И у каждого писателя свой Дон Жуан, не похожий на собратьев.
Согласно преданию, в Испании четырнадцатого века действительно жил дворянин Дон Хуан Тенорио, отчаянный авантюрист, безбожник, дуэлянт, пользовавшийся огромным успехом у женщин. Каждый из писателей, бравшийся за «донжуановскую» тему, использовал эти сведения и создал своего Дон Жуана, не похожего на других.
Если бы случилось такое чудо и все Дон Жуаны, когда-либо созданные воображением писателей, сошлись бы вместе, не обошлось бы без беды. Или, по крайней мере, без доброй потасовки. Потому что сказать про этих Дон Жуанов, что они разные, — значит еще очень слабо выразиться. Многие из них прямо-таки противоположны друг другу по своим характерам. Даже враждебны.
Один из этих Дон Жуанов — грязный соблазнитель, бесчестный убийца, даже вор.
Другой — искатель романтического идеала, тоскующий без истинной, высокой, вечной любви.
Третий попадает в такое тяжелое положение. Он любит женщину и знает, что любим ею. Но он не может открыть ей, кто он — ведь некогда, в честном поединке, им был убит ее муж.
Поэтому он прячется под чужим именем. Но в минуту решительного свидания он открывает возлюбленной свое подлинное имя, рискуя жизнью и тем, что для него дороже жизни — ее любовью. Он и представить себе не может, чтобы лгать любимой.
Четвертого... О, четвертого все это ничуть не смутило бы. Он спокойно придет на свидание в чужом плаще, выдавая себя за другого человека. Его логика проста и цинична: какая разница, что поцелуй назначается не ему? Ведь целовать-то будут его, а не кого-нибудь другого!